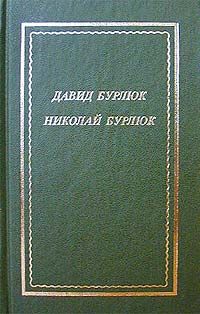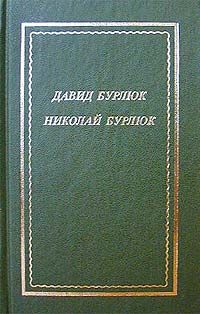популярным местам Москвы.
Еще более абстрактное выражение скорости можно найти в заумной поэзии футуристов. Алексей Крученых – первый поэт, употребивший термин «заумь», – выступал за создание бессмысленных слов и неологизмов, которые он представлял себе как быстрые всплески творчества («Как писать, так и читать надо мгновенно!» – заявил Крученых в 1915 году), для создания чувства языковой свободы и скорости, которое было бы сродни динамизму авангардной живописи того времени [45]. Хотя некоторые приверженцы зауми, в первую очередь Велимир Хлебников, лишь изредка интересовались скоростью, Крученых и несколько других поэтов-авангардистов нашли в зауми идеальное средство для передачи динамизма и для спонтанного самовыражения. Заумный язык, часто лишенный семантики и синтаксиса, позволил русским кубофутуристам выражать себя самым активным, полуабстрактным и, возможно, космическим способом. Кубофутуристы создавали быструю, импульсивную поэзию, которая, хотя и могла в некоторой степени замедлять процесс чтения непосвященными читателями, явно источала скорость и мгновенность.
Связь скорости и беспредметности была еще более заметна в русской авангардной живописи и скульптуре. Движение кубофутуризма, в котором участвовали как поэты, так и художники, дает достаточно свидетельств того, насколько важным аспектом стала скорость в складывающихся стилях русских художников-авангардистов, которые опирались на Пикассо, Боччони и других, создавая все более абстрактные работы. В 1912 году два ключевых сторонника кубофутуризма, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, основали недолговечное движение лучизма, чья эстетика оперировала красочными всплесками лучей света, исходящими как из фигуративных, так и из нефигуративных источников. Этими динамичными всплесками лучей Ларионов и Гончарова постепенно делали знакомые предметы неотличимыми от их окружения, совершая тем самым один из первых шагов русского авангарда в сторону абстракции. В то время как неопримитивистские работы этих двух художников, создававшиеся одновременно с лучистскими полотнами, использовали элементы русской иконы и лубка (дешевой ксилографии или гравюры, популярной в России в XVIII и XIX веках), в качестве основы своего лучистского искусства и опоры для его движения к абстракции Ларионов и Гончарова использовали динамизм современной жизни и современной науки.
Если существует русский художник, который активно развивал теорию скорости и включил ее в свое беспредметное искусство, то это Казимир Малевич. Сочетая кубистические эксперименты, футуристический упор на скорость и мистическое представление о четвертом измерении, Малевич создал супрематические «нульформы» – плоские геометрические фигуры, лишенные какого-либо намека на мир природы и словно плывущие по холсту. В развитии абстракции XX века супрематизм как момент перелома представляет собой одну из наименее очевидных, наиболее косвенных трактовок современной скорости, которые будут обсуждаться в этой книге. Хотя беспредметные супрематические формы Малевича вряд ли напоминают о скорости, они часто означали космический динамизм, который сам Малевич воспринимал как нечто происходящее из скорости футуристического искусства. «…Мы, еще вчера футуристы, через скорость пришли к новым формам, к новым отношениям к натуре и к вещам», – заявил Малевич в своем эссе 1915 года «От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм» [Малевич 1995, 1: 42]. Анализ некоторых супрематических работ Малевича показывает, что скорость и ее более общая категория, динамизм, стали важнейшими идеями, подведшими Малевича к созданию абстрактных, парящих супрематических масс.
Владимир Татлин, один из главных соперников Малевича, также использовал в своих работах понятие скорости. Быстро превратившись из художника-футуриста в «строителя», Татлин перешел от холста к разнообразным трехмерным формам, структурно передающим ощущение стремительного движения. Начиная со своих «живописных рельефов» и «контррельефов», представленных в 1914–1915 годах, и до созданной в 1919–1920 годах протоконструктивистской модели своего знаменитого памятника III Интернационалу, Татлин использовал динамизм в качестве важнейшего компонента для своих амбициозных художественных проектов. Татлинский памятник, предшественник кинетической скульптуры, которой советские конструктивисты занимались в 1920-х годах, представлял собой огромную наклонную башню с вращающимися секциями и антропоморфной структурой, которая, казалось, шагала вперед к утопическому советскому будущему. Впоследствии Татлин проникся идеями человеческого полета, что привело художника к идее сконструировать летательный аппарат «Летатлин». Аэропланы и полет, воплощенные символы модернистской скорости, на самом деле стали важным источником вдохновения для русского авангарда и облегчили принятие им быстро движущихся абстрактных форм.
Хотя авангардная живопись и поэзия процветали в царской России, кинематограф только зарождался в качестве средства, способствующего экспериментированию с быстрыми, абстрактными формами. Лишь после Октябрьской революции 1917 года кино переместилось в авангард эстетической повестки. Первые новаторские разработки в кинематографе были сделаны на Западе, но к середине 1920-х годов советское кино стало ведущей революционной силой. Развивая технику монтажа, советские кинематографисты создавали беспрецедентное визуальное впечатление скорости благодаря тщательной, часто крайне быстрой нарезке кадров. Некоторые из пионеров монтажа того периода – режиссеры Кулешов, Вертов и Эйзенштейн – сыграли важную роль в формировании у советского кино интереса к скорости. Все три этих режиссера были поклонниками ранних кинематографических «трюков», таких как ускоренное изображение, обратное движение и зрелищные эффекты; пытаясь создать повышенное ощущение динамизма, советские кинематографисты превратили эти «трюки» в полноценные кинематографические приемы. Тем не менее режиссеры-новаторы, которых обычно причисляют к авангардистам из-за их предпочтения «бессюжетного» кино традиционным повествовательным произведениям, интегрировали новые методы в свои фильмы различными, порой противоположными способами. В то время как Кулешов подчеркивал физические действия своих актеров (и каскадеров), Вертов использовал замысловатые кинематографические трюки, чтобы подчеркнуть скорость современного советского общества, а Эйзенштейн применял «интеллектуальный» монтаж, чтобы обогатить свои политически заряженные фильмы.
Буквально в одночасье в советском кино сформировалась утопическая эстетика скорости, и ускоренные кадры с машинами, рабочими и революционными событиями представили публике амбициозное видение нового, быстрого общества, заметно отличающегося от прошлой медлительной жизни. Хотя раннее советское кино время от времени вызывало ощущение абстракции с помощью ускоренного изображения, пропаганда и явная идеология преобладали. Различные немые фильмы олицетворяли стремительность и утопизм новой советской эпохи. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» Кулешова (1924), «Потомок Чингис-хана» Всеволода Пудовкина (1928), «Турксиб» Виктора Турина (1929) и знаменитый «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (1929) – все они в той или иной степени передают силу и потенциал скорости, присущей социалистическому обществу. Посредством кинестетики этих и других кинематографических работ, которые будут предметом обсуждения в настоящей книге, советские кинематографисты стремились представить советское общество как нечто быстро преображающееся и меняющееся.
Между 1910 годом и началом 1930-х скорость вызвала к жизни ряд эстетических концепций и практик русского авангардного искусства. Для некоторых художников скорость означала повышенный динамизм: энергичное движение, присущее их качественному пониманию динамизма, давало концептуальную основу для стихов, картин и фильмов, в которых прославлялось движение ради движения и решительно отвергалась статика. Чаще всего этот динамизм представлял собой быстрое движение в явной форме, которое художники воссоздавали или по крайней мере намекали на него формальными средствами. Для других скорость была не