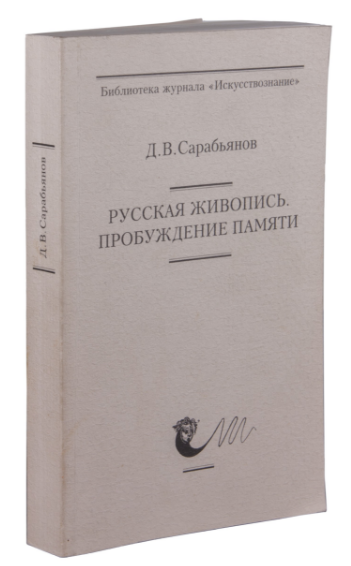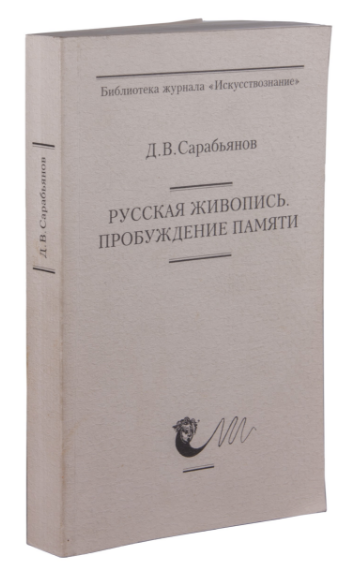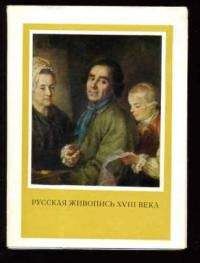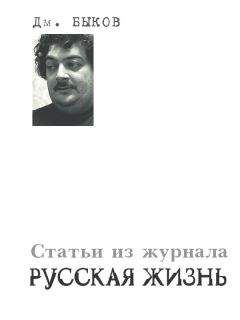мотиве человека, стоящего неподвижно и смотрящего вдаль на сходящиеся у горизонта линии, не получил развития в России. В исторической картине подчеркнуто перспективные пространственные ситуации присутствуют редко. Портретисты же, овладевшие перспективой «из вторых рук», не придавали ей существенного значения и к тому же не с ее помощью решали задачу введения человеческого тела в пространство интерьера. Так или иначе главные свидетельства завоеваний единства фигуры и интерьера остаются в пределах портрета, хотя его сущность реализуется и не в решении этой задачи.
Если вернуться к Левицкому, следует констатировать еще одно обстоятельство. В его живописи в удивительном равновесии с телом оказывается и та одежда, в которую оно облачено. Одежда в портретах Левицкого в полном смысле слова — «продолжение тела» (о. Павел Флоренский), неотделима от него и всегда ведет себя в соответствии не только с жестом, позой, движением, но и с человеческим характером, который в равной степени воплощается в самом теле и в одежде. Речь идет в данном случае не о моде, а о единстве пластическом. Это единство в портретной живописи достигалось тоже немалой кровью. На заре XVIII века, утратив свою одухотворенность, столь ощутимую в иконописном изображении, платье часто как бы не совпадало с телом, застилало его. В той линии портретного творчества, которая сохраняла элементы парсунности и дала наивысшие плоды в произведениях Антропова, одежда подчас «одержима» пугающей вещественностью, являясь свидетельством художнического любопытства, заставляющего живописца «потрогать» предмет, пощупать его, насладиться тактильным контактом с его поверхностью. В этих случаях одежда приобретает не предназначенное ей самобытие. Левицкого не покидает эта жажда наслаждения реальностью, но он вводит его в рамки живописной корректности.
Это «тактильное зрение», впервые отвоевавшее себе законное место в русской живописи, знаменовало собой тот аспект проблемы тела, который в иконописи не мог присутствовать, ибо иконописец не имел греховной потребности дотронуться не только до божественного тела, но и до его земного двойника. Лишенный комплекса Фомы Неверующего, иконописец благоговел перед одухотворенной плотью. Художнику XVIII века открылась иная — земная реальность в ее повседневной общедоступности. В этой ситуации «тактильное зрение» обострилось. «Трогая» тело, художник отождествлял его со своей плотью, отдавал свой телесный опыт живописному явлению. Идея телесности переносилась с объекта на субъект, а затем возвращалась объекту, обогащенная собственным художническим телесным бытием в пространстве. Можно предположить, что подобное взаимодействие субъектной и объектной телесности — явление всеобщее. Но в лучших произведениях русской портретной живописи 1770-1780-х годов это взаимодействие стало свидетельством не только «познавательной лихорадки» русского XVIII века, но и достижения гармонии телесного начала с цветовым, ритмическим и композиционным равновесием.
Вхождение тела в интерьер было достигнуто в портретной живописи. Но искусству предстояло решать иные задачи: необходимо было освоить бытовое жилище и выйти за пределы дома — на природу, вторгнуться в пространство мира. В основном эти задачи решались в первые десятилетия XIX века. Домашний интерьер — тот же костюм, он так же неотделим от тела, которое находит в нем своего прямого резонатора. Главная роль в освоении домашнего интерьера принадлежала родоначальнику русской жанровой живописи А. Венецианову, хотя и многие портретисты романтического или бидермейеровского направления (В. Тропинин, О. Кипренский, К. Брюллов) не могли обойти эту задачу. Но они решали ее на пути к другим целям, как бы попутно откликаясь на общие завоевания искусства. Венецианов же выдвинул эту цель как одну из главных и вне ее достижения не мыслил собственного движения к истине.
Начало было положено картиной «Утро помещицы» (1823), где художник меньше всего занят пересказом мелкого повседневного события сельской жизни (помещица задает крепостным девушкам «урок» на день), а больше заинтересован в воссоздании целостного организма сцены, в которой тело и пространство комнаты пребывают в благополучном единстве. Пространство разворачивается в глубину уступами (створки ширмы, торцовая стенка шкафа, окно) и «прощупывается» контрастом света и тени. Свет скорее исходит от фигур и царит в воздухе на первом плане сцены, чем заливает комнату из окна, срезанного рамой картины и лишь узкой полоской открывающего зрителю вид на окрестный ландшафт. Внутреннее и внешнее пространства, безусловно, связаны друг с другом, но внешнее скорее представляется продолжением внутреннего, а не наоборот. И это обстоятельство ставит в центр внимания интерьер, а его конфигурация создает на редкость удобное вместилище для тел. Пространство и тело как бы формируют друг друга. Естественно, в этом процессе собственный телесный опыт Венецианова реализуется в закреплении поз, в специфичной для художника приостановке действия. Момент этой приостановки присутствует и в «Гумне», и в «Очистке свеклы», но особенно в «Спящем пастушке» и «Лете» — то есть в главных произведениях художника 20-х годов. Можно полагать, что своеобразие собственного телесного опыта, манеры движения, а в конечном счете и поведения художника [45] совпадали с «потребностями» русской живописи в тот момент, когда развернулось творчество Венецианова.
Венецианов оказывается центральной фигурой, фиксирующей своим искусством процессы художественного освоения тела и пространства, его окружающего. В этом отношении важны и некоторые другие шаги, сделанные художником. Первый из них — выход человеческой фигуры в окружающий ландшафт. Предвижу возражения: ведь нельзя же сказать, что XVIII век в России прошел мимо такой живописной задачи. Действительно, можно вспомнить портрет Елизаветы Петровны с арапчонком, выполненный Г.Х. Гроотом в 1743 году, многочисленные конные портреты того же Гроота или И. Аргунова, некоторые жанровые картины (например, И. Танкова) или городские пейзажи, населенные людьми, наконец, портреты В. Боровиковского 1790-х годов. Но все это были разрозненные опыты, не решавшие задачи. Гроот воссоздает пейзажную ситуацию, практически ничем не отличающуюся от интерьерной, — пейзажное пространство здесь не завоевано. Жанровые картины Танкова рисуют идиллические сцены, в которых фигуры уподоблены стаффажу. Ту же роль играют они в пейзажах Алексеева или Семена Щедрина, в многочисленных графических городских видах, выполненных русскими и иностранными мастерами. Боровиковский практически почти не вырывается из интерьера, но ограниченного не стенами комнаты, а декоративной завесой ветвей и листьев. Ясно, что венециановские опыты гораздо принципиальнее и решительнее. К тому же его искания последовательны и несут на себе явные следы усилий, тогда как в иных (перечисленных выше) случаях художники берут готовые формы, прежде уже завоеванные предшественниками.
Один из первых выходов самого Венецианова и его героев в свободное пространство связан с курьезным случаем. Задумав картину «Гумно» (между 1821 и 1823 годами), изображающую внутренний вид большого сарая, Венецианов повелел своим крестьянам выпилить торцовую стену постройки, открыв тем самым интерьер природному окружению. Некоторые из действующих лиц оказались буквально на границе этих двух пространств, которые теперь — в отличие от того,