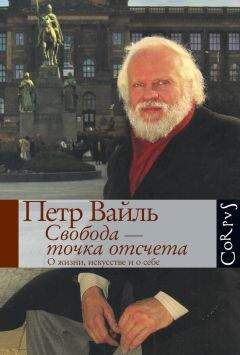раз наоборот: он сам уже все рассказал до мельчайших подробностей. <…>» (с. 138). Вайль умело балансирует на грани допустимого, смещается от «плюса» к «минусу», посредством сугубой
субъективности демонстрируя видимость
объективной репрезентации личности и творчества писателя [34].
В итоге «самое удивительное в феномене Довлатова» (с. 138), в представлении Вайля, заключается в следующем:
«Дело не в самом Довлатове, не в его прозе, не в характере его дарования, не в авторском образе. Дело в русской читательской традиции, которая освоила и присвоила Довлатова, домыслив за него то, чего этой традиции не хватило в довлатовских буквах и словах. А домыслив, преданно и искренне полюбила: как свое» (с. 138).
Заключительный вывод друга-критика парадоксален: «Дело не в самом Довлатове…», дело «не в его прозе…», «не в характере его дарования», даже «не в авторском образе» (Вайль последовательно указал на те составляющие, которые инспектировал в статье). Главное, по Вайлю, – «русская читательская традиция». Мастером у Вайля в итоге оказывается не Довлатов, а читатель (точнее: читательский «комплекс», о котором критик рассуждал выше), экспроприировавший писателя, занявший его место и обеспечивший популярность прозаику-художнику. Настойчивое повторение отрицания «не» в финале статьи психологически репрезентативно – многократность эксплуатации отрицательных частиц «не» выдает истинную оценку Вайлем таланта (меры и уровня таланта) прозаика Довлатова, его «(полно-)ценности» и значения как художника [35].
Складывается назойливое (признаем, не-научное) впечатление, что Вайль мстит Довлатову за некие прежние обиды («обидно быть комическим персонажем», с. 279), в том числе за те, о которых он упоминает в статье «Из жизни новых американцев» (2006), когда Довлатов «выставлял» соратника по радио «Свобода» «законченным дебилом» (с. 130), за былую давнюю «вражду» (с. 278), упомянутую в статье «Великий город, окраина империи» (1994), которая (как свидетельствует текст и подтекст) не была изжита «друзьями» (друзьями-врагами?), во всяком случае одним из них. «Ревнивое отношение» (с. 129) Вайля к герою «разбора» очевидно.
В итоге можно сделать вывод: отдельные – единичные – двусмысленные оценки творчества и личности Довлатова, обнаруженные в статье Вайля, могли бы показаться случайностью, неточностями, могли бы оказаться в тексте «по недосмотру» автора. Однако стройная система двусмысленностей, которые последовательно реализованы квалифицированным критиком посредством «богатого и могучего» русского языка, на основе полисемии, омонимии, лексической вариативности языковых проявлений, заставляют предположить, что Вайль сознательно играл в тексте со словом, порождая дуалистичность восприятия его оценок, эксплицируя намеренную дихотомию его субъективной критической аксиологии. Суммарность и сгущенность языковых стратегий, которые актуализировал Вайль, демонстрируют сознательность двузначной (подтекстово неоднозначной) оценки, которая была осознанно (на наш взгляд) сформирована его текстом.
Некогда Вайль писал о манере жизненного поведения Довлатова: «Не надо переоценивать: во всем ощущался оттенок иронической игры. Но не надо и недооценивать: игра воспринималась серьезно…» (с. 125). В данном случае игровой ход, эксплуатированный критиком в статье «Писатель для читателя», может быть удостоен той же реакции: «не надо <…> недооценивать…» Интертекстуальный пласт вайлевских языковых игр позволяет судить, насколько игра с «феноменом Довлатова» может быть «восприн[ята] серьезно…»
Таким образом, интертекстуальные пласты статьи Вайля «Писатель для читателя» обнаруживают парадоксальные аксиологические ракурсы критической наррации, осуществленной критиком-другом ради «полноценного разбора» творчества Сергея Довлатова. Игра с лексическими, синтаксическими, стилевыми возможностями русского слова позволяет автору статьи мастерски «разоблачить» талант современного прозаика, внешне (на речевом уровне) оставаясь безупречно объективным, кажется, весьма точно воспроизводящим особенности манеры писателя. Другое дело, что «уровень полемики» (с. 126) такого рода смущает и заставляет усомниться в «дружеской» объективности критика. Подтекст вайлевской статьи выводит исследование уже не к литературоведческим практикам, но к этико-психологическим.
Иван Толстой
Застолье Петра Вайля
Петр Вайль был прежде всего политиком. Не потому, разумеется, что он ею интересовался. Нет, он был политиком самому себе. Если политика – это планомерное осуществление некоей программы, то такая программа у Вайля была, и очень отчетливая. Но рождалась она не на людях, не в публичном пространстве, а за столом, вернее – за столами.
Он всегда знал, чего хочет. И готовился к своему шагу с максимальной тщательностью. Три вещи лежали перед ним – карта, расписание и кулинарная приправа. Он сам любил вспоминать свой юношеский портфель с вечным походным набором советских лет – зубная щетка, чистые носки и хмели-сунели: не пропадешь ни в одной компании.
В движении к цели он не знал авося и импровизации. Двадцать лет назад я назвал свою беседу с ним «Беспечный педант». Не хочу переписывать историю, но я был не прав. Был он не беспечным, а скорее невротическим, тираническим педантом. А уж когда все задуманное получалось, все было увидено, измерено, понято, тогда можно было беспечно поужинать. Хотя – беспечно, если вы соглашались с его выбором блюд. А если сопротивлялись, вы падали в его глазах.
Вайль был классическим либералом. Уважая свободу и личность, он не выносил никакой жестокости и самодурства. И сам был человеком строгих правил. Не терпел расхлябанности и приблизительности – ни в обществе, ни в литературе, ни в частных отношениях.
По его неизменному пиджаку с галстуком читается многое. Требуя уважения к себе, он галстуком ежеминутно обозначал норму. В его случае это была не официальная, а именно нормативная одежда.
Норма – вообще одно из центральных для Петра понятий. Мои права заканчиваются там, где начинаются твои. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вполне библейские заповеди. Никакого амикошонства, панибратства. Развязность может быть только краткосрочной и только частью игры, в которую готовы играть оба.
Поэтому Петр был человеком предсказуемым, то есть европейским, светским. Скандалов не устраивал, русским безудержом не обладал. Это и были его политические взгляды: либеральные, а, значит, с его точки зрения, нормальные.
Второе важнейшее для Вайля понятие, его кредо – профессионализм. «Ни в какой работе, – говорил он, – на очень талантливых людей рассчитывать нельзя. В любой работе надо рассчитывать на людей максимум профессиональных». И свое разочарование в российских делах формулировал так: «Может быть, вообще отсутствие профессионализма – самое пагубное, что есть сейчас в России, во всех сферах».
Сам он умел работать при любых обстоятельствах, при всех политических режимах (и в рижской «Советской молодежи», и в нью-йоркском «Новом американце» – причем, и там, и там в одинаковой должности ответственного секретаря), и при пустом кошельке, и на хорошем жаловании, и в галдящей редакции, и в кабинетной тиши под вариации Баха.
Он везде находил себе стол. Любил повторять, что одни обедают на краю письменного, другие