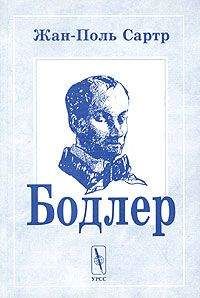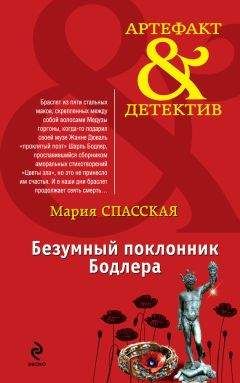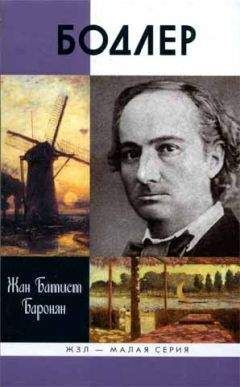Прошлое, — мечтает он в «Романтическом искусстве», — сохранив всю притягательность миража, обретет наконец светозарность и подвижность, свойственные жизни, и станет настоящим («Художник современной жизни»).
И в «Цветах Зла»:
Покуда явь не заслонит виденья
Былых восторгов, вечно милых нам,
Так губы льнут к безжизненным губам,
Чтоб воскресить хоть призрак наслажденья.
(«Призрак». II).
(Пер. В. Левика.)
Итак, мы видим, что Бодлер и вправду стремится добиться в своих стихах объективного единения бытия и существования.
Таков в основных чертах портрет Бодлера. Впрочем, предпринятое нами описание уступает живописному портрету в том отношении, что описание разворачивается во времени, тогда как в портрете все дано одновременно. Лишь в акте непосредственного восприятия лица или поведения можно было бы почувствовать, что все черты, перечисленные здесь нами друг за другом, на самом деле образуют нерасторжимый синтез, так что любая из этих черт, выражая сама себя, в то время отсылает и ко всем прочим. Если бы мы хоть на миг увидели живого Бодлера, наши разрозненные замечания немедленно сложились бы в целостной познавательный образ; ведь непосредственное восприятие предмета приводит к его смутному, или, говоря языком Хайдегтера, «доонтологическому» пониманию, на рационализацию которого иногда уходят годы и которое, в своей синкретической нерасчлененности, содержит в себе главные характеристики этого предмета. Хотя такое понимание Бодлера нам недоступно, мы тем не менее можем в заключение отметить тесную взаимозависимость всех внешних и внутренних проявлений Бодлера, обратить внимание на то, как именно, в силу специфической диалектики, та или иная черта «переходит» во все прочие, подчеркивает их или ими дополняется. То безуспешное, бесплодное и как бы безнадежное напряжение, которое создает внутреннюю атмосферу бодлеровского мира, проявляясь для всех, кто был с ним знаком, в режущей сухости голоса и холодной нервозности движений, — это напряжение проистекает, несомненно, из ненависти Бодлера к природе, не только внешней, но и внутренней; оно есть не что иное, как попытка выйти из игры, разорвать солидарные связи с людьми; более всего оно напоминает то презрительное, тоскливое и непреклонное чувство, которое испытывает узник подземелья, ставший жертвой наводнения: видя, как вода неумолимо поднимается вдоль его тела, он все сильнее запрокидывает голову — чтобы отвратительная влага как можно дольше не касалась самой благородной части его существа, средоточия мысли и взгляда. Вместе с тем эта стоическая позиция влечет за собой своеобразное раздвоение личности, которое Бодлер поддерживает в себе на всех уровнях; он обуздывает, укрощает и судит самого себя, он — сам себе свидетель и сам себе палач, он — нож, будоражащий рану, и он резец, обрабатывающий мрамор; пребывая в постоянном напряжении, все время трудясь над собой, он делает это затем, чтобы ни в коем случае не остаться данностью для самого себя, будучи в любой миг готовым взять на себя ответственность за то, что он есть. В этом отношении довольно трудно отличить внутреннюю напряженность, к которой он себя принуждает, от комедии, которую он перед собой разыгрывает. Эта напряженность оборачивается то самоистязанием, то пронзительной ясностью сознания, однако, взглянув на дело с другой стороны, мы заметим, что она есть сущность дендизма и стоической аскезы; в то же время она — воплощение бодлеровского ужаса перед жизнью, постоянной боязни запачкаться и оскверниться; узда, в который он держит собственную спонтанность, равносильна сознательной стерилизации. Подавив все свои порывы, раз и навсегда заняв рефлексивную позицию, Бодлер тем самым сделал выбор в пользу символического самоубийства; он убивает себя ежедневно. Вместе с тем именно напряжение создает атмосферу бодлеровского «Зла». Ведь у Бодлера преступление замышляется и совершается вполне сознательно, почти что в принудительном порядке. Зло для него — не результат распущенности, это противо-Добро, обладающее всеми признаками Добра, только взятыми с обратным знаком. Поскольку же Добро требует усилий и стараний, требует, чтобы человек овладел самим собой, то ясно, что бодлеровское Зло также предполагает все эти качества. Вот почему бодлеровское «напряжение» ощущает свою проклятость и желает быть проклятым. Равным образом обнаруженное нами влечение Бодлера к обузданным наслаждениям выражает его ненависть к распущенности, воедино сливаясь с его фригидностью и старильностью, с полным отсутствием чувства милосердия и великодушия и, наконец, с тем самым внутренним напряжением, которое мы только что описали: Бодлер желает быть господином самого себя даже в самый разгар удовольствий; одергивающую узду ему нужно почувствовать в тот самый миг, когда он отдается наслаждению; в этом смысле фантазматические видения, вызываемые им в воображении во время полового акта (судьи, мать, прекрасные холодные женщины, за ним наблюдающие), призваны спасти его в самый момент гибели — гибели в пучине неприкрытых ощущений; можно даже предположить, что сама его импотенция вызвана боязнью чрезмерного наслаждения. С другой стороны, однако, стремясь не дать воли чувственным удовольствиям, он делает это также и потому, что неудовлетворенность является для него принципом, и он выбирает для себя наслаждение от неудовлетворенности, а не наслаждение от обладания. Мы уже знаем, что цель, к которой он стремится, — это то странное представление о самом себе, при котором бытие и существование нерасторжимо сливаются воедино. Но ведь подобная цель недостижима, и в глубине души Бодлер это знает; он рвется к этой цели, уже касается рукой и, кажется, вот-вот схватит — ив этот миг она от него ускользает. Пытаясь не заметить поражения, он всячески убеждает себя, что мимолетное прикосновение к предмету якобы и есть его присвоение; поэтому, как бы перестроив все свои желания, он в любой сфере жизни начинает домогаться этого возбуждающего прикосновения, доказывая самому себе, что оно-де и является тем единственным способом обладания, о котором только и можно мечтать. Безнадежную неудовлетворенность он нарочно выдает за утоленное желание. Происходит же это, между прочим, потому, что единственной его целью всегда является он сам. Человек, получающий нормальное удовольствие, наслаждается объектом, забывая при этом о себе, между тем как, возбуждаясь щекоткой, он испытывает наслаждение от собственного желания, иными словами, от себя самого. Повторим еще раз: этой своей жизни, напоминающей здание с фальшивыми окнами, этому безостановочному процессу самовозбуждения Бодлер придает совершенно иной смысл: для него самого его жизнь есть воплощение радикального недовольства низвергнутым Богом. Чтобы утишить обиды, он начинает пользоваться этой жизнью, словно оружием: перед матерью, например, он всегда выставляет свои страдания напоказ; однако, присмотревшись, мы заметим, что эти страдания суть не что иное, как оборотная сторона его удовольствий. Ведь проклинать небеса оттого, что ты неудовлетворен, или видеть в удовлетворенности глубинный смысл сладострастия — это, в сущности, одно и то же; различие возникает как результат незначительных вариаций в отношении к исходному предмету. Эта тщательно лелеемая боль, обретая форму самонаказания, также служит Бодлеру свою службу, когда ему хочется поквитаться с Добром и в то же время бесповоротно утвердить свою другость. Подчеркнем еще раз: Бодлер не знает ни малейшей разницы между крайними формами самоутверждения и предельными формами самоотрицания.
Безоговорочно отрицая себя, он помышляет о самоубийстве; все дело лишь в том, что самоубийство отнюдь не является для него жаждой абсолютного небытия: воображая акт самоуничтожения, он надеется истребить в себе природу, которая ассоциируется для него с настоящим и с аурами сознания. От идеи самоубийства он не требует многого, она для него — лишь щелчок выключателя, который позволит ему увидеть собственную жизнь как нечто непоправимо свершившееся, как от века предначертанную ему судьбу или, если угодно, как безысходный тупик. В акте самоуничтожения он усматривает наилучший способ восполнения своего бытия: именно он должен подвести итог, поставить точку, превратив его жизнь в некую сущность, которая будет навеки задана и навеки создана им самим. Только так может он избавиться от невыносимого ощущения, что он лишний в этом мире. Все дело лишь в том, что всякий, желающий насладиться плодами самоубийства, с необходимостью должен остаться в живых после того, как оно совершилось. Вот почему Бодлер решил осуществить себя, как бы пережив собственную смерть. Он не кончает с собой в одночасье, но зато любой свой поступок превращает в символический эквивалент смерти, принять которую он так и не решился. Бодлеровская холодность, импотенция, стерильность, отсутствие великодушия, отказ служить кому бы и чему бы то ни было, грех — все это эквиваленты самоубийства. Самоутверждение равносильно для него полаганию себя в качестве сугубо пассивной субстанции, а по сути дела — в качестве памяти; самоотрицание же означает бесповоротное превращение в промежуточное звено в цепи собственных воспоминаний. Что касается поэтического творчества, которому он отдает предпочтение перед всеми прочими видами деятельности, то и оно, по сути, приближается у него к самоубийству, о котором он непрестанно думает. Поэзия привлекает его прежде всего потому, что позволяет ему, ничем не рискуя, осуществлять свою свободу, но главным образом потому, что она менее всего напоминает любую форму дара, отвратительного Бодлеру. Сочиняя стихотворение, он уверен в том, что не дает людям ровным счетом ничего или, по крайней мере, оделяет их совершенно бесполезным предметом. Бодлер ничему не служит, он скареден, замкнут в себе и не желает умаляться в собственном творении. Вместе с тем, когда он пишет стихи, требования рифмы и ритма побуждают его предаваться той же самой аскезе, в которой он упражнялся с помощью дендизма и туалетов. Он оформляет свои переживания, как оформлял тело и поведение. Существует дендизм бодлеровской поэзии. И наконец, творимый им объект есть не что иное, как его собственный образ, его память, воссозданная в настоящем, имитирующая синтез бытия и существования. Поскольку же, однако, он в значительной мере все еще остается пленником этой памяти, то ему не удается овладеть ею, и он продолжает испытывать чувство неутоленности: тем самым желание и его объект, соединившись, образуют пару и в конце концов слипаются в то единое — взвинченное, извращенное и неудовлетворенное — существо, которым является не кто иной, как сам Бодлер. Как видим, бодлеровское самоотрицание, словно по законам гегелевской диалектики, «переходит» в самоутверждение, самоубийство превращается в средство самоувековечения, а боль, знаменитая бодлеровская боль, обнаруживает ту же внутреннюю структуру, что и сладострастие, тогда как поэтическое творчество оказывается сродни бесплодию; все эти мимолетные формы и повседневные проявления личности перетекают друг в друга, возникают, исчезают и вновь возникают в тот самый миг, когда о них уже и не помнишь; все это вариации одного и того же сквозного, исходного мотива, воспроизводимого на множество разнообразных ладов.