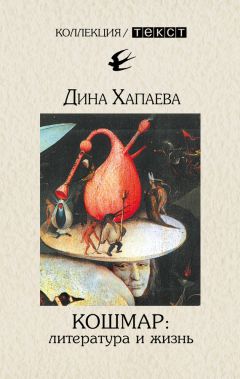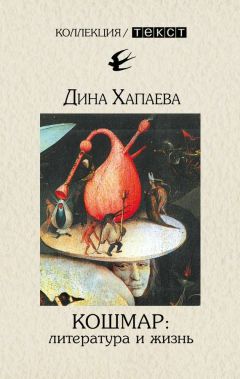Обременительный, навязчивый и бессмысленный за-говор Голядкина передает только его ощущения, находящиеся на до-рациональной, невербальной стадии, его внутреннюю психическую борьбу, которую он не в состоянии ни осознать, ни проанализировать. Переживаемый героем кошмар, который становится внятен именно благодаря всем этим причитаниям и междометьям, затягивает, как воронка. И именно на воссоздание его и направлены усилия автора.
В подтверждение сказанного можно привести простой историко-литературный аргумент. Как мы помним, Достоевский смирился с диагнозом критики, поставленным его «Двойнику», и под ее влиянием стал считать это произведение «неудавшимся ему по форме». В «Дневнике писателя» в 1877 г. он вспоминал:
...
Повесть эта мне не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно.
Что бы Достоевский ни имел в виду под формой, для нас важно отметить одно обстоятельство: перерабатывая поэму в 1866 г. для «Общего собрания сочинений» Достоевский ее резко сокращает. Из нее исчезают – повинуясь, возможно, своей странной судьбе в этом тексте? – письма или их большие фрагменты. Выпадают некоторые звенья интриги (что, как неоднократно отмечалось, еще больше затруднило понимание текста). Но бормотанье Голядкина, его иррациональная доречевая активность не подверглись и в этом переработанном варианте существенному сокращению. Остались на своем месте дежавю, повторы, семикратные кружения по городу, зеркала и провидения. Не правда ли, это вновь заставляет вспомнить историю с переработкой «Портрета» Гоголем?
Какую роль в том, как героя затягивает кошмар, играет слово – внутреннее навязчивое бормотание? Всегда ли слово является средством преодоления кошмара, способом поставить под контроль опасные эмоции, или оно тоже может стать орудием кошмара? – вот вопросы, которые интересуют Достоевского и на которые он пытается ответить в «Двойнике».
«Двойник» – это опыт, поставленный на герое для того, чтобы понять, что такое кошмар как особое ментальное состояние и как он развивается в сознании. Его важнейший источник Достоевский видит в обреченной на провал попытке перевести кошмар в речь и тем самым заклясть его. Голядкин не в силах выговорить тягостные эмоции, облечь в слова то внутреннее напряжение, которое порой посещает нас. Это – не внутренний диалог и не внутренняя речь, не нарратив и не рассуждение, а жужжание и зудение невыраженных и невыразимых, невербализируемых эмоций, которые иногда осаждают нас, стесняя грудь, доводя до исступления своей неспособностью излиться в слове. Бормотание – эмоция до ее вербализации, место борьбы чувств и языка, борьбы чувств с языком. Бубнение, в котором слово теряет смысл – свою рациональную природу, и затягивает в кошмар наяву, затмевая разум. Мука бессловесной иррациональностью невыразимого опыта, создаваемого этим нытьем, – таков исток кошмара. Кошмар, исследуемый Достоевским в «Двойнике», предстает как неспособность выразить особый ментальный опыт в словах, как сбой в переводе эмоционального опыта на язык рациональности.
Мы читаем в «Двойнике» описание особого кошмара – полубреда-полусна:
...
Всю ночь провел он в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку на бок, охая, кряхтя, на минуту засыпая, через минуту опять просыпаясь, все это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, – одним словом, всем, что только можно найти неприятного… [344]
Кошмар в полусне – еще более мучительный, чем полноценный кошмар, – от незавершенности состояния, от неясного и неотвязного за-говора (а не только от видений), от тревоги пребывания в пограничном состоянии между словом и тем, что лежит за его пределами, – позволяет нам увидеть и понять границу, у которой бьется слово и которую оно не в силах преступить и, вероятно, не должно преступать. Полубред, пытка «беспамятством слова», неспособностью забыться, когда герой ворочается в постели, а в голове у него вертятся бессмысленные обрывки фраз, обломки слов.
В «Двойнике» вопрос о границе кошмара и реальности, о границе реального-ирреального переносится в плоскость неотступного сомнения и психологического конфликта. В этом смысле для Достоевского не так важно, видит Голядкин этот кошмар наяву или во сне, во сне или наяву происходит действие: текст оставляет возможность обоих толкований.
Теперь можно вернуться к вопросу, которым мы задались в начале этой главы: почему «Двойник» производит на читателя столь завораживающее впечатление? Действительно, из повествования невозможно вырваться, а при попытке его анализировать появляется необоримое желание воспроизводить этот текст и продолжать кружиться в его водовороте. Чтение этого «нагромождения повторов» чарует потому, что перед нами возникает внутренний процесс – совокупность ощущений, в которых смешаны реакции на ирреальные события литературной реальности и достоверные фантазии кошмара. Достоевский явно жертвует всем ради того, чтобы передать со всей возможной точностью, воспроизвести последовательно и психологически достоверно не мыслительный логический процесс, не анамнез психической болезни, не сюжет «правдивейшей истории», а полный цикл перерождения слова в кошмар, невыразимость ужаса словами. Исследование этого внутреннего процесса самоценно для писателя:
...
А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не страх… лихорадочный трепет пробежал по жилам его. (…) но от странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя (…) [345]
Или:
Так-то выражался восторг господина Голядкина, а между тем что-то все еще щекотало у него в голове, тоска не тоска, – а порой так сердце насасывало, что господин Голядкин не знал, чем утешить себя [346] .
Бормотанье Голядкина воспроизводит «навязчивый как кошмар» чувственный опыт, с которым знаком каждый. Воссоздавая его, Достоевский описывает порог, за которым эмоция уже не может воплотиться в слово.
«Двойник» – это полемика о сути кошмара. В «Двойнике» герой пытается осмыслить кошмар и сопротивляться ему, критически отнестись к своему состоянию. Тогда как герои Гоголя озадачены лишь одним вопросом: не сон ли это? Герой, автор и читатели вынуждены одновременно и осмыслять это трудное ментальное состояние, и ставить его под сомнение, сопереживать его и критически наблюдать.
В «Двойнике», истории подлеца, ничто не заставляет нас – если мы не одержимы классовой солидарностью с маленьким человеком – принимать эмоции героя за свои собственные и из чувства личной симпатии, лояльности, как это часто случается при чтении художественного произведения, самоидентифицироваться с героем. Автор сразу предъявляет нам это противоречие, чтобы помешать некритично «сопереживать» герою, создавая почву для отстраненного наблюдения. Это – скорее сговор с читателем, чем тайное манипулирование им, к которому стремился Гоголь. Участие читателя в этом диалоге, призыв к читателю проверить подлинность описываемого своими собственными чувствами – такова была авторская задача, которую ставил перед собой Достоевский. Можно сказать, что в этом состоял его особый писательский метод.
Достоевский отказывается от эксплуатации привычного стремления читателя увидеть себя идеальным героем. Он привораживает читателя другим. Нам не оторваться от внутреннего бормотанья Голядкина потому, что в нем заключено нечто не только предельно знакомое нам, но и крайне значимое. Узнавание нашего собственного неясного и неосмысленного опыта в литературном произведении, а вовсе не обогащение новым знанием об особенностях раздвоения личности придает ему столь удивительную власть над читателем, хотя в поэме с точки зрения литературной интриги, по сути дела, ничего не происходит. Мы не просто сопереживаем душевным терзаниям героя – мы, незаметно для себя, повторяем и воспроизводим его состояния, его реакции, как бы «пробуем» их, невольно примеряем их на себя. Именно поэтому читатели во главе с «неистовым Виссарионом» бранились, бранятся и будут бранится, но все по-прежнему «читают и перечитывают» «Двойника».
Цель Достоевского – нащупать исток кошмара, который противостоит слову, слагается из эмоций, настигающих и мучающих бодрствующее сознание. Чтобы автор и читатель могли наблюдать этот процесс, герой-подлец должен пройти через все стадии пытки кошмаром. Подопытный герой превращается в место, сквозь которое преломляются литературная реальность и кошмар.
«Двойник» обнажает порог, у которого бьется «беспамятное» слово, захваченное кошмаром. Необходимым орудием, позволяющим сделать это, становится полный арсенал гипнотики, который Достоевский использует в «Двойнике», – погоня и бегство, провидения и внезапные забвения, провалы во времени и разрывы причинно-следственных связей, кружения героя и кружения текста, дежавю и повторы, зеркала, в которых отражается двойник, смешивая кошмар и литературную реальность, полностью стирая грани между ними. Ибо Достоевский понимает, что никакими словами – ни прямой речью героя, ни авторским словом – нельзя выразить и передать то, что человек переживает в кошмаре, что для этого требуются особые художественные приемы. Воспроизведение элементов подлинного кошмара – с гоголевскими пробуждениями, мороком между сном и литературной реальностью, с кошмаром погони и бегства – не является самоцелью, как у Гоголя или Пелевина. Гипнотика кошмара служит не для того, чтобы заставить читателя под видом чтения художественного произведения пережить кошмар наяву. Она позволяет раскрыться главному в поэме: невыразимости кошмара в слове.