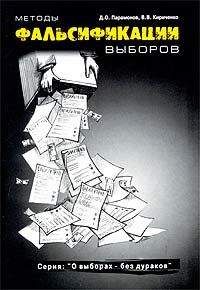Рассмотрим текст Ямпольского, как предлагает делать он сам, в качестве «биологического индивида» — как если бы он не имел ни прошлого, ни будущего в творчестве этого весьма плодовитого филолога и был бы исключен из «истории духа», но зато включен в «естественную историю» идей. Источником вдохновения для автора является параллель между «естественной историей» и «историей духа», а точнее аналогия между «организмами» естественной истории и культурными феноменами. Интерес к естественным наукам вызван не только их «деидеологизированностью», но и несомненной материальностью их предмета. Аналогия между естественным и гуманитарным знанием, как и в рассуждениях Огюста Конта (на которого Ямпольский, впрочем, тоже не ссылается), выступает гарантом материальности и, стало быть, реальности феноменов культуры, а методы естественных наук — гарантом истинности познания. Замечательно, что даже средства, которые используются Ямпольским для создания «эффекта реальности», удивительно сходны с теми, которые используют французские новаторы. Так, феномен культуры рассматривается как «материальный объект», а также как «организм». Призыв Ямпольского понимать текст «как биологический индивид», выглядит просто цитатой из высказывания Латура, которым он в интервью хотел передать весь свой скепсис по отношению к «истории идей» и «интеллектуальным влияниям». Критикуя понятие «интеллектуального влияния» потому, что его нельзя материально проследить или измерить, французский исследователь настаивал на том, что книга является ничуть не более значимым инструментом передачи интеллектуального влияния, чем мышь-мутант, присланная из одной лаборатории в другую[207].
Книги и мыши, биологические организмы и явления культуры, «материальные объекты» и «литературные произведения» уравниваются ради того, чтобы науки о духе перестали казаться той «эстетической псевдоисторией», в которую превратил их крах великих парадигм:
«Но как только история литературы перестает быть прямой трансляцией платоновских идей, то есть сконструированной эстетической и концептуальной псевдоисторией, литературные феномены становятся похожими на биологические. А именно: в них анахронистически сохраняются следы их генезиса. История буквально существует в живом актуальном организме как атавистический орган, как сохранившийся след филогенеза. Именно поэтому эволюционная схема естественной истории (биологической или геологической) приобретает особую актуальность. Так сохраняется прототекст внутри текста-пародии»[208].
О причине своего энтузиазма по поводу естественнонаучного знания автор заявляет прямо и недвусмысленно: гуманитарное знание спасут модели, «прошедшие серьезное эпистемологическое испытание в области естественных наук», поскольку «естественная история была наиболее очевидным альтернативным способом описания феноменов вне контекста истории идей и идеологий»[209]. Как мы помним, стремлением порвать с идеологическими построениями предшествующей интеллектуальной эпохи была вызвана ориентация на естественно-научное знание и у представителей прагматической парадигмы.
Как видим, российский вариант прагматизма, стадию эволюции которого на языке его приверженцев можно было бы определить как эмбриональную, пока не смог предложить столь же развернутой и теоретически осмысленной рационализации тех сомнений и переживаний, которые вызвал распад структурализма во Франции.
Синдром парадигм: русская версия
Отечественный позитивизм в его наиболее традиционном виде можно смело назвать доминирующей ориентацией в российских социальных науках. Но ни традиционный позитивизм, преобладающий в академии, ни менее распространенное его прагматическое прочтение не претендуют на то, чтобы считаться «парадигмой». Скорее, их приверженцы подчеркивают, что наступившее время «после парадигм» позволяет социальным наукам вернуться к их изначальному призванию, а именно к позитивизму, отринув всякие теоретические искания. Распространению такого взгляда особенно способствует упадок постмодернизма, который, пережив бурный расцвет в России 90-х годов, к началу нового тысячелетия очевидно исчерпал кредит доверия[210].
Тем не менее специфическая российская банализация кризиса совсем не означает, что утраченная способность объяснять происходящее, равно как и прошлое и будущее, не лежит тяжелым бременем на сердце российских гуманитариев. Наука, лишенная «экзистенциального и социального смысла», которым обладали прежние парадигмы, начинает казаться бессмысленной:
«Как перевести свое ощущение от жизни, проблем и т. д. на язык профессиональных задач? Это — трудный вопрос, и я стараюсь его решить для себя, но тренда, в который мне хотелось бы вписаться, я не вижу… Я считаю, что без него невозможно в интеллектуальной сфере серьезная работа. За работой есть экзистенциальный и социальный выбор, вне его она не живет…»
— рассуждает А. Зорин.
По мнению некоторых оптимистов, потребность в парадигме стала слабеть, сменяясь «идеологическим синкретизмом»:
«С одной стороны, отменена норма, а с другой — существует тяга и потребность в норме, голод и поиск нормы. Вместо Маркса начинают цитировать Марка Блока или Бахтина с такой же настырностью, и продолжается поиск единой универсальной парадигмы, которая должна заменить ту, которую отменили. Вот эта тоска по другой парадигме некоторое время ощущалась. Мне кажется, что сейчас она ослабела. Прошло время, и люди научились жить с меньшим количеством костылей. Доминирующие парадигмы подавляют свободу моего сознания, мешают мне играть с разными идеями. А сознание несвободное требует: хорошо, вы отменили одну, дайте другую. Прошло десять лет, и состояние отчаянного дискомфорта в условиях отсутствия парадигмы начинает сменяться сознанием, что можно жить и так, можно брать понемножечку и оттуда и отсюда. Дело идет к идеологическому синкретизму»,
— считает М. А. Бойцов.
Однако далеко не все в состоянии испытывать незамутненную радость, отделавшись от цепей парадигм. Напротив, осознание неразрешимых методологических трудностей, стоящих перед социальными науками, зачастую приводит к весьма невеселым последствиям. Пытаясь снять напряжение, возникающее между жаждой возродить «прошлое таким, каким оно было на самом деле», и неспособностью поверить в такую возможность, некоторые историки начинают искать смысл своей деятельности в эксгумации. Мертвое прошлое, в которое историк больше не надеется вдохнуть жизнь, превращает «сладость эксгумации», ставшую «основным инстинктом историка»[211], в метафору конца профессии[212].
Конечно, надежда — в том числе и надежда найти новую парадигму в переводах — умирает последней. Она и сегодня продолжает жить в некоторых отечественных «научных сообществах», хотя поддерживать ее становится все труднее. Но для тех, кто понимает, что «правила изменились», остается глубоко неясным, что делать дальше и как найти «новые правила».
«Например, социологи продолжают мыслить в этих категориях и искать большую парадигму. Поэтому они так пристально и вглядываются в Запад, пытаясь найти там новый большой нарратив. Надо понять, что гуманитарное знание существует по новым правилам, я не знаю, каковы эти правила — их нужно вырабатывать. Действительно, изменилась логика. Французы сетуют, что нет нового Броделя. Ушел Бурдье, ушел Делез… А кого действительно можно назвать из французов такого уровня, кого будут слушать во всем мире?»
— вопрошает П. Ю. Уваров.
Тоска по новой парадигме гложет российских представителей социальных наук, а результатом обнаружения «дефицита теории», если воспользоваться словами И. С. Кона, становятся растерянность и апатия.
«Большой стиль ушел, тоска по нему осталась. Нету большой идеи, которая способна была бы объединять вокруг себя людей, и это и есть академизация или маргинализация в дурном смысле слова»,
— резюмирует эти чувства Г. Морев.
Такое описание «состояния умов» в России в точности совпадает с видением ситуации французскими коллегами. Маргинализация или, иными словами, «распад сообщества» напрямую связывается с потребностью в новой парадигме, в «большой идее» или «большом стиле», без которых и в России, и во Франции исследователи социальных наук испытывают гнетущее чувство пустоты.
Именно настоятельная потребность противопоставить хоть что-то «позитивное и общепризнанное» пустоте привела к воспроизведению в России в начале XXI в. синдрома парадигм, который овладел Францией в конце 80-х годов. Отличительной особенностью этого синдрома можно назвать стремление сформулировать новую теоретическую программу, которая позволила бы заявить о конце кризиса социальных наук и стать доказательством их социальной полезности. Этот повторяющийся эпизод в истории социальных наук последнего десятилетия достоин того, чтобы уделить ему особое внимание: глубоко международный характер этого синдрома, возможно, позволит понять, почему мы живем в эпоху распада научных школ и мертворожденных парадигм.