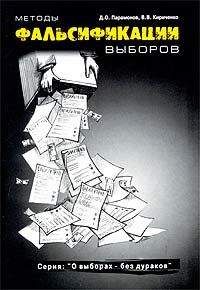— резюмирует эти чувства Г. Морев.
Такое описание «состояния умов» в России в точности совпадает с видением ситуации французскими коллегами. Маргинализация или, иными словами, «распад сообщества» напрямую связывается с потребностью в новой парадигме, в «большой идее» или «большом стиле», без которых и в России, и во Франции исследователи социальных наук испытывают гнетущее чувство пустоты.
Именно настоятельная потребность противопоставить хоть что-то «позитивное и общепризнанное» пустоте привела к воспроизведению в России в начале XXI в. синдрома парадигм, который овладел Францией в конце 80-х годов. Отличительной особенностью этого синдрома можно назвать стремление сформулировать новую теоретическую программу, которая позволила бы заявить о конце кризиса социальных наук и стать доказательством их социальной полезности. Этот повторяющийся эпизод в истории социальных наук последнего десятилетия достоин того, чтобы уделить ему особое внимание: глубоко международный характер этого синдрома, возможно, позволит понять, почему мы живем в эпоху распада научных школ и мертворожденных парадигм.
Прообразом новой российской парадигмы стала не французская прагматическая парадигма, а американский новый историзм. Вполне возможно, что преобладание американских связей в среде филологов-русистов, а также «дисциплинарная принадлежность» нового историзма к филологии, культурологии, а прагматической парадигмы к социологии, антропологии, когнитивным наукам — сделали новый историзм более известным среди российских новаторов[213].
Отметим с самого начала, что попытки формирования новой парадигмы в России были гораздо более скромными, чем во Франции. Дело не только в том, что «парадигма Досса» насчитывала более сотни исследователей, тогда как «парадигма Козлова» — «новый историзм» — оперировала лишь тремя, и не только в том, что когда С. Козлов оповестил о новой парадигме, а именно в 2000–2001 гг., парадигма Досса уже отошла в прошлое. Вдохновители прагматической парадигмы значительно облегчили задачу Доссу, предложив систему продуманных теоретических ходов, в то время как из трех «новых истористов» только один опубликовал программный документ, открыто встав под знамена парадигмы. Два других «новых историста» — А. Л. Зорин и О. Проскурин — предпочли публично отмолчаться.
Но парадигма Козлова не стала «языком эпохи» точно так же, как и парадигма Досса. За время, прошедшее с момента презентации парадигмы Козлова, под знамена движения не встали новые члены, а интерес к полемике вокруг него довольно быстро угас. Более того, за исключением А. Эткинда, те, кого Козлов посчитал лидерами «нашего нового историзма», так и не примкнули к этому течению. Напротив, отзывы «новых истористов» о новом историзме зачастую звучат весьма скептическими:
«— Что такое новый историзм?
— Я не люблю новый историзм. Сам Гринблатт это делает виртуозно, а все остальные делают крайне грубо и плохо. И поскольку он один делает это виртуозно, а все остальные плохо, приходится предполагать, что методика слабовата. Берутся абсолютно наугад два совершенно не относящихся друг к другу текста, и между ними начинают связываться какие-то узлы. И если это может работать на материале Ренессанса, где мы имеем дело с гомогенной культурой, то при существовании гетерогенной культуры с этим нельзя будет работать, получится чистый хлам. Личная интуиция Гринблатта — у него выбор текстов, которые не имеют между собой ничего общего, но он в них что-то видит, и это вопрос его исторической интуиции личной, его глаза и его остроумия. Но это малоработающая техника. <…> Все, что написано под этим флагом, — это абсолютная мертвечина, на мой взгляд»,
— утверждает А. Зорин.
«Новые истористы» несклонны соглашаться именно с теоретическими взглядами друг друга. Так, Зорин не соглашается с методологическими предпосылками работы Проскурина, в остальном отдавая ей должное:
«К книге Проскурина у меня огромные претензии. Но он написал тотальное исследование поэзии Пушкина после Томашевского, и у него это получилось. Он продемонстрировал уровень и класс, который демонстрировали предшественники. Мне кажутся сомнительными методологические предпосылки этой книги, но пафос ее мне очень понятен».
Эткинд — единственный из трех авторов, отнесенных Козловым к русскому новому историзму на основании опубликованного манифеста, — явно считает новый историзм своей индивидуальной исследовательской стратегией, а не коллективным предприятием, «направлением» или «школой». По его словам, за последние десять лет в российской гуманитарии не возникло новых школ, и новый историзм не является исключением из этого правила:
«— Что же происходит нового, интересного?
— Да ничего я не вижу интересного. Появляется много институций образовательных, журналы типа „НЛО“. <…> Но я не могу назвать ни одной научной школы в области филологии или истории, которая образовалась бы на моей памяти. Напротив, я вижу, как многие школы, за которыми была какая-то когерентность, разрушаются на моих глазах, а новых не появляется. Наоборот, преуспевают как раз те, кто дает площадку для столкновения разных идей, например, „НЛО“. Но я не знаю ни одного успешного начинания, связанного с какой-то конкретной школой здесь, в России».
Показательно, что побудительным мотивом для написания Козловым статьи о «наших новых истористах» было не восхищение теорией, а жажда события в «сообществе»:
«Наконец-то в русском литературоведении что-то произошло. Я не был в энтузиазме от нового историзма, я был в энтузиазме от того, что что-то наконец произошло. <…> Тем, что ничего не происходит, объясняется то, что малейшее сотрясение среды вызывает реакцию».
Неготовность рассматривать новый историзм как «свою» парадигму дополняется странным для российских «новых истористов» невниманием к его политическим импликациям, что не может не удивлять, учитывая ту особую роль, которую новый историзм уделяет политике в своем анализе. Как известно, американский новый историзм сложился под сильным влиянием марксизма, причем не только под влиянием его поздней французской структуралистской версии, а именно, Альтюссера. Не забудем, что Гринблатт начал карьеру в 1970-е годы как преподаватель марксистской эстетики[214], а в центре внимания исследователей, называвших себя «новыми истористами», как отмечает Козлов, всегда оказывались «униженные и оскорбленные», подавляемые властью. Дать им право голоса было одной из немаловажных задач, которую ставили перед собой американские основатели течения[215]. Напротив, в герои «наших новых истористов» попадают преимущественно представители политической или культурной элиты. По мнению Козлова, за это ответственна символическая мощь нашей государственной границы, обладающая способностью менять политическую ориентацию импортных интеллектуальных продуктов на противоположную.
Это утверждение вряд ли покажется убедительным. В самом деле, например, Жижек и Бадью не утрачивают в России своей левизны и не превращаются в союзников российских правых.
Итак, двое из трех авторов, записанных Козловым в новые истористы, не причисляют себя к новому историзму. Всем им глубоко чужды идеалы марксизма, в отличие от их американских коллег. Кроме того, выбор в качестве идейных предтеч Проскуриным Уайта, а Зориным — Гирца вряд ли позволяет однозначно опознать в них представителей нового историзма.
Оставляя в стороне вопрос о том, в какой степени выбранные Козловым авторы являются новыми истористами «на самом деле», надо признать, что стремление объединить их творчество под общей рубрикой не случайно. Между этими тремя авторами — и не только между ними — действительно есть внутреннее родство. Категория «наших новых истористов» является прототипической: в качестве прототипа выступает А. М. Эткинд, тогда как остальные двое присоединены к категории на основании оставшегося неясным для критика «семейного сходства». Только это сходство носит не «теоретический», не «парадигматический», а стилистический и психологический характер.
Дефицит теории или величия?
Биография — это последний бастион реализма. В современной прозе мы все время сталкиваемся со сложной техникой: тут и поток сознания, и его разорванность, и так далее. Единственный жанр, в котором обыватель <…> еще может найти связное повествование от начала до конца — глава первая, вторая, третья — это биография.
И. Бродский[216]
Черты сходства, объединяющие трех авторов, лежат на поверхности. Прежде всего это материал, которым является русская литература и шире — русская культура. Здесь важно не пройти мимо существенного различия между французской и российской ситуацией. В СССР советская идеология стремилась законсервировать культурное наследие XIX в. (разумеется, тщательно отобранное и трансформированное), справедливо видя в нем эффективную защиту от новых веяний. Поэтому в современной России культура XIX в., и прежде всего классическая русская литература — основа общей культуры и программы средней школы — являются той разделенной почвой, к которой могут апеллировать интеллектуалы как к хорошо известной и понятной широкой публике. Не потому ли Пушкин, о котором, казалось бы, уже все сказано, остается бессменным героем все новых исследований? Не в этом ли кроется секрет неувядающей популярности и других классиков русской литературы? Во Франции, как ни парадоксально это может показаться российскому читателю, привыкшему считать Западную Европу резервуаром традиций, разрыв с традиционным представлением о том, «что следует знать образованному человеку», оказался гораздо более радикальным, чем в России. Поколение 1968 г. призвало к решительному отказу от передачи того, что было принято рассматривать в качестве необходимой основы «общей культуры». Острота французских дебатов последнего десятилетия вокруг реформы средней школы была в значительной степени вызвана нежеланием учителей — представителей поколения революционеров — обеспечить передачу этой «буржуазной» традиции своим ученикам (в чем многие видят причину резкого падения качества школьного образования во Франции). Размытость представлений о том, что входит сегодня в понятие «общей культуры», усложнила поиск консенсуса между французской широкой публикой и интеллектуалами.