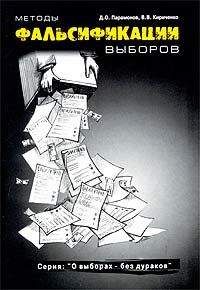Черты сходства, объединяющие трех авторов, лежат на поверхности. Прежде всего это материал, которым является русская литература и шире — русская культура. Здесь важно не пройти мимо существенного различия между французской и российской ситуацией. В СССР советская идеология стремилась законсервировать культурное наследие XIX в. (разумеется, тщательно отобранное и трансформированное), справедливо видя в нем эффективную защиту от новых веяний. Поэтому в современной России культура XIX в., и прежде всего классическая русская литература — основа общей культуры и программы средней школы — являются той разделенной почвой, к которой могут апеллировать интеллектуалы как к хорошо известной и понятной широкой публике. Не потому ли Пушкин, о котором, казалось бы, уже все сказано, остается бессменным героем все новых исследований? Не в этом ли кроется секрет неувядающей популярности и других классиков русской литературы? Во Франции, как ни парадоксально это может показаться российскому читателю, привыкшему считать Западную Европу резервуаром традиций, разрыв с традиционным представлением о том, «что следует знать образованному человеку», оказался гораздо более радикальным, чем в России. Поколение 1968 г. призвало к решительному отказу от передачи того, что было принято рассматривать в качестве необходимой основы «общей культуры». Острота французских дебатов последнего десятилетия вокруг реформы средней школы была в значительной степени вызвана нежеланием учителей — представителей поколения революционеров — обеспечить передачу этой «буржуазной» традиции своим ученикам (в чем многие видят причину резкого падения качества школьного образования во Франции). Размытость представлений о том, что входит сегодня в понятие «общей культуры», усложнила поиск консенсуса между французской широкой публикой и интеллектуалами.
Еще одна общая черта — поиск особого стиля, который особенно ясно выражен в творчестве А. М. Эткинда[217]. Стремление адресовать свои тексты широкой читающей публике отражается в стремлении писать литературным, даже художественным слогом вместо привычного наукообразного новояза социальных наук. Выход за пределы академического дискурса как осознанная стратегия проявляется, в частности, в выборе названий, также предельно далеком от академического канона: «Авторство под луной: Пастернак и Набоков», «Подражание дьяволу: Уильям Буллит в истории Михаила Булгакова» (Эткинд). «Поэт-элегик как поэт-порнограф», «Что скрывалось под панталонами», «Чем пахнут червонцы» (Проскурин), «Русские как греки», «Враг народа» (Зорин) и т. д. Но самое главное — работы этих авторов объединяет общий интерес, который до сих пор не был замечен критиками. Это — поиск рецепта величия, который вдохновляет их произведения.
Означает ли сказанное, что новаторы — обуянные гордыней честолюбцы, ослепленные жаждой славы и популярности? Вовсе нет, ибо независимо от того, ищут они или нет удовлетворения личного тщеславия, они обречены искать новую модель величия писателя-интеллектуала-исследователя потому, что старая модель утратила жизненную силу.
В эпоху господства больших парадигм биографии была сужена участь маргинального сюжета: чтобы открывать законы общественного развития, требовались массовые или так или иначе усредняемые факты. Если биография привлекала историков или литературоведов, то обычно в качестве повествования о жизненных перипетиях «популярных» исторических деятелей или культурных персонажей — Леонардо да Винчи, Ван Гога, Пушкина. Боренья уникальной творческой личности с непонимающим, равнодушным или враждебным обществом — таков был обычно главный конфликт жизнеописания. Власть рассматривалась чаще всего как помеха творчеству, препятствие, создаваемое на пути художника, механизм подавления или искажения творческих замыслов, орудие преследования и т. д.
В последнее время биография великого поэта, философа или мыслителя выдвинулась на передний план в разных областях социальных наук — к ней потянулась даже социальная история в лице школы «Анналов». Обращение к биографии писателя или поэта, интеллектуала и философа типично сегодня для многих российских авторов, в том числе и для творчества российских новаторов. Как конструируется индивидуальное интеллектуальное величие, «как Пушкин вышел в гении» — не этот ли вопрос пробуждает интерес современных биографов, хотя далеко не все выносят его в заглавие своих сочинений? Проблема социального измерения и социального конструирования успеха — новый поворот старой темы взаимоотношений творческой личности с властью — выступает на передний план.
Как же сегодня представляются отношения «поэта и царя»? Если раньше биографов интересовало то, как власть уничтожала поэтов и душила дарования, то теперь их внимание привлекают отношения, в которых поэту, философу, интеллектуалу отводится не страдательная, но назидательная, влиятельная и властная (хотя вовсе не обязательно положительная) роль. Эта модель строится скорее на принципах диалога, чем противостояния, в чем трудно не увидеть следы влияния позднего Фуко. Примеры многообразны: Вольтер и Петров в отношениях с Екатериной у Зорина, Ахматова и Сталин у Жолковского… Если же сотрудничество с властью невозможно предположить или герои биографии в нем разочаровываются, то тогда ставится вопрос о параллельности существования власти и поэта, выясняются границы и возможности творческой независимости поэта от власти, права последнего на автономию. Секрет литературного или философского успеха — Аренд и Ренд, поэмы «Руслан и Людмила», оды поэта Петрова — переводится в вопрос о свободе поэта или о месте и роли поэта в обществе. И во всех приведенных примерах роль эта оказывается велика и исполнена значения.
Заметим, что величие, которое изучают наши авторы, сугубо индивидуально. Их не волнует, как может возвыситься класс или социальная группа, художественное направление или философская школа. Чаще всего это личный успех писателей и поэтов — иными словами, собратьев по цеху. Как тексты осуществляются в жизни, как тексты создают жизнь, как возникают разные модели интеллектуального величия — такие темы пронизывают биографии в последней работе Эткинда «Толкование путешествий». Как и благодаря чему «Руслан и Людмила» стала лучшей поэмой в долгожданном жанре, как Пушкин в 1830-е годы, преодолевает и решает для себя дилемму отношений с властью, «обосновывая свободу и суверенность поэзии»[218] и поэта, — вот вопросы, которые ставит Проскурин. Еще яснее и ярче эта тема звучит в работе Зорина — как соловьи кормят баснями двуглавых чудищ, т. е. как поэты направляют политику государей, заставляют (через свои тексты) признать себя, навязав свое мировидение власти или отстояв свое право на свободу слова, приспособившись к ее пожеланиям.
Интерес к конструированию величия не ограничивается российскими просторами. Его можно назвать едва ли не единственной общей темой для исследований российских и французских новаторов, в остальном избирающих разные, чтобы не сказать — противоположные, сюжеты и стратегии. В «Экономиках величия» Болтански и Тевено анализируют способы, благодаря которым величие создается и признается в качестве такового социальными актерами, использующими разные модели оправдания. Правда, в фокусе их внимания оказывается тема достижения социального согласия, а не конструирование интеллектуального величия. Но уже в книге «Слава Ван Гога» Натали Эник, долго работавшей совместно с Болтански и Тевено (книге с показательным подзаголовком «Социология восхищения»), тема конструирования величия артиста формулируется прямо. Другим примером интереса к этому сюжету во Франции может служить история интеллектуалов, где тема коллаборационизма и увлечения радикальной политикой постепенно уступила место теме конструирования индивидуального величия французскими интеллектуалами прошлого.
Кризис идентичности интеллектуала и исследователя во Франции заставил усомниться в прежних формах консенсуса относительно природы величия. В России дефицит интеллектуального величия стал ощущаться особенно остро в силу гораздо более радикального, чем во Франции, распада институционных форм его поддержания, в том числе критериев оценки научного и интеллектуального творчества. В эпоху исчезновения величия российские исследователи, не желающие коротать свои дни в юдоли позитивизма, не случайно пытаются найти утраченный рецепт, вычитать разгадку в биографиях великих авторов прошлого. Они ищут модель величия, которая могла бы позволить отстоять свое право на существование в интеллектуальном пространстве, новый стиль отношений с публикой и властью.
Почему ни в России, ни во Франции, ни даже в США не появляется новых имен великих ученых — властителей дум, какими в свое время были Леви-Стросс или Лотман, Бродель или Гуревич, Бахтин или Фуко? Почему не возникает новых жизнеспособных научных школ, не рождаются парадигмы, несмотря на многочисленные попытки их создания[219]? Новое не превращается в великое во Франции, а в России интеллектуалы жалуются на то, что к новому и вовсе отсутствует интерес. Дело, вероятно, не в том, что наши современники менее талантливы, чем их предшественники. Скорее, что-то сломалось в способности создавать культ великих, а может быть, и в потребности искать и находить «научный» талант.