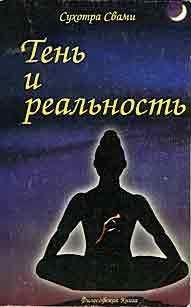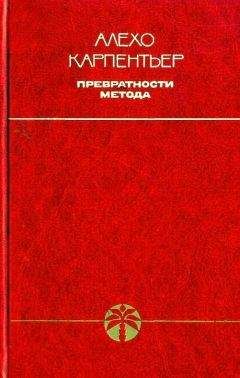Минске, Одессе
[323].
В период 30-х гг. в Ленинграде было репрессировано около 130 писателей [324].
Преследования художников (с некоторым изменением их характера и масштабов) продолжались и после смерти Сталина. По свидетельству бывшего заместителя председателя КГБ Ф. Бобкова, с 1953 по 1964 г. во времена Хрущева по ст. 58-10 (антисоветская деятельность) было арестовано около 12 тыс. человек. За период с 1965 по 1985 г. — 1300 (по ст. 70-190 КУ РСФСР) [325].
А вот пример уже конкретного отношения представителей власти к художнику, который в своей работе приводит В.П. Конев: рукописи романа В. Гроссмана (вторая книга о Сталинградской битве «Жизнь и судьба», 1-я книга — «Правое дело») были арестованы и изъяты у автора из квартиры друзей писателя и редакции сотрудниками КГБ. Кроме того, автора заставили дать подписку, что за разглашение тайны изъятия он будет отвечать в уголовном порядке. Не помогло обращение В. Гроссмана к Первому секретарю ЦК КПСС Н. Хрущеву [326].
В период 70—80-х гг. были высланы и эмигрировали, в частности, В. Ашкенази, М. Барышников, М. Богин, П. Вайль, А. Годунов, В. Аксенов, А. Гладилин, В. Некрасов, В. Максимов, О. Рабинович, М. Ростропович, А. Тарковский, О. Видов, Б. Давидович, Н. Коржавин, С. Довлатов, И. Кабаков, М. Шемякин.
Понимая всю важность фактологической стороны дела, в то же время приходится признавать, что изучение этого важнейшего вопроса ведется главным образом в историографическом и политологическом аспектах, в то время как его философско-аналитический дискурс остается менее разработанным. Исследования данного вопроса, как правило, ограничиваются заключениями, сводящими такое непростое отношение, как «художник—власть», к абсолютной антиномии трансцендентального происхождения. И уже представленная в таком виде данная проблема рассматривается преимущественно в метафизическом ключе, оперируя такими бинарными понятиями мифологического сознания, как добро—зло, темное—светлое.
При всей, казалось бы, внешней привлекательности данного подхода (приоритет этического начала, наличие эмоциональной окраски суждений, методологическая облегченность и логическая простота), тем не менее приходится признать, что он все-таки так и не выводит столь сложную и важную проблему за пределы мифологического дискурса. В конечном итоге это приводит к тому, что сама суть вопроса оказывается за пределами научного объяснения, сложность которого подчеркивали многие, в частности И. Эренбург: «Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали?» [327]. Здесь немало проблем, которые с трудом поддаются формально-логическому или даже просто рациональному объяснению. Гносеологические трудности данной проблемы, нередко становящиеся основанием обращения к мистическому дискурсу, в любом случае не отменяют необходимости строго научного анализа данного вопроса. Именно поэтому попытка редуцировать всю историко-философскую сложность данного вопроса лишь к политическому дискурсу (значение которого само по себе не отменяется) оборачивается не только сужением его значения, но и появлением очередных мифологемных построений.
В конечном итоге такой подход в методологическом аспекте оказывается очень близок, как это ни парадоксально, сталинистской позиции, также строящейся на мифологемах, только с прямо противоположным распределением «плюсов» и «минусов» в рамках отношения «художник—власть». Методологические границы этих двух противоположных, а в действительности — тождественных подходов не позволяют вскрыть сущность таких вопросов, как генезис и развитие исторических форм взаимоотношений художника и власти и стоящих за ними тончайших и сложнейших противоречий общественных реалий. Так, что и апологетика, и негация — эти два подхода, несмотря на свое формальное различие, в равной степени исключают критический взгляд на проблему взаимоотношений художника и власти, оставляя ее во власти мифологемных форм сознания.
Актуальность именно философского исследования данной проблемы вызвана интересом не только к прошлому нашей культуры, но и к ее настоящему положению, когда художник наряду с бюрократическим давлением сегодня все сильнее испытывает на себе тотальное давление уже другого института — современного рынка.
В то же время, поскольку вопрос взаимоотношения художника и власти является слишком сложным, заслуживающим специального глубокого изучения, постольку в рамках данного, ограниченного в объеме исследовательского формата мы ограничимся лишь рассуждениями следующего рода.
Практика изучения данного вопроса выявляет один повторяющийся у большинства исследователей логический ход, который приводит к суждению, в дальнейшем используемому ими в качестве исходной посылки в развертывании системы аргументации своих концептов. Этот логический конструкт предполагает, во-первых, в качестве субстанции бинарного принципа отношения «художник—власть» рассматривается только идеология. Такое суждение проистекает, видимо, из того, что идеология является и инструментом, и источником репрессивных интенций по отношению к художнику.
Можно предположить, что причиной такого подхода (видящего в идеологии корень всех негаций) является также идеология, но уже прямо противоположного знака, т.е. антикоммунистическая. Неприятие господствующей в советской системе идеологии — вот основная причина подавления художественной интеллигенции, таково мнение многих исследователей данного вопроса.
Но в таком случае сложно объяснить целый ряд фактов, расходящихся с данным заключением: известно, что многие художники, выражая свою политическую лояльность господствующему режиму, тем не менее попадали под маховик репрессий и преследований, как это случилось с Бабелем, Кольцовым, Мейерхольдом и многими другими. Можно, конечно, предположить, что данные художники давали основания сомневаться в прочности их большевистской идеологии. Но может быть и другое объяснение: идеология не является основным фактором, детерминирующим конфликт между художником и властью, и здесь возымели действие какие-то другие силы.
Чтобы не попасть в ловушку абстрактно-общих выводов, попробуем рассмотреть конкретно-исторический дискурс этого вопроса на примере отношения власти к тому, кто считался первым поэтом среди большевиков и главным большевиком среди поэтов. Речь конечно же идет о Маяковском, который с самого начала рассматривал советское государство в первую очередь не как институт власти, а как социальный инструмент для решения в том числе культурных задач. И поэтому идею общественного сотрудничества с политической властью поэт поддержал уже в начале ноября 1917 г. Его деятельность с органами государственной власти в послереволюционный период была достаточно широка и интенсивна. Вот лишь отдельные ее фрагменты:
— участвует в работе литературной коллегии Наркомпроса Союза коммун Северной области;
— поступает на работу в Наркомпрос в качестве сотрудника Литературно-художественного подотдела Отдела изобразительных искусств; [328]
— работает в Государственном совете по делам искусств; [329]
— привлекается к работе в ТЕО;
— входит в состав Художественного совета театра РСФСР Первого; [330]
— работает в коллегии Отдела изобразительных искусств; [331]
— первый вступает в члены союза драматических и музыкальных писателей; [332]
— работает в редакции газеты «Искусство коммунизма. [333]
Казалось бы, между художником — идеологом большевизма и политической властью не может быть никакого конфликта. Но так ли это