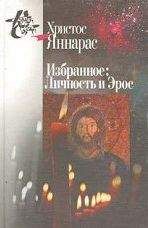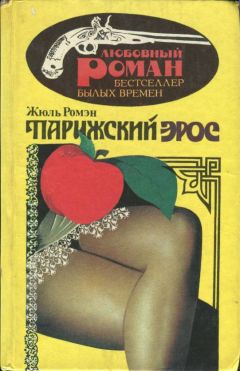γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ μανίαν κακὸν εἶναι, καλῶς ἂν ἑλέγετο· νῦν δὲ τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας, θεία̨: μέντοι δόσει διδομένης.
Неправдива та речь, где утверждается, будто, когда есть поклонник, угождать следует преимущественно не любящему, потому что первый неистовствует, второй здравомыслит. Если бы абсолютным было то положение, что неистовство есть зло, правильно речь звучала бы. Но ведь величайшие из благ от неистовства в нас происходят, по божественному, правда, дарованию даруемого.
(Phdr., 244а)
Основной аргумент Сократа, который он приводит, давая иную оценку безумию: здравый ум возможно сохранить, лишь отсекая себя от богов. По-настоящему благие и воистину божественные вещи живут и действуют вне нас самих и требуют, чтобы мы впустили их в себя, – и они нас изменят. Такое вторжение учит нас и обогащает нашу жизнь и жизнь тех, кто нас окружает. Ни один прорицатель, врачеватель или поэт не может практиковать свое искусство, не впадая в неистовство (244а–245). В их случае безумие – инструмент ремесла. А самое главное, эротическая mania – очень важная вещь для самой личности. От нее у души вырастают крылья.
Толкование Сократа, при котором mania становится плодотворным индивидуальным опытом, проистекает из теории движения души, тщательно разработанной в ответ на проблему контроля эроса, поднимаемую лирической поэзией. Анализ Сократа включает в себя и переворачивает традиционные метафоры эроса с тем, чтобы переработать их в совершенно новую картину эротического опыта. Там, где поэты видят потери и вред, Сократ указывает на пользу и возможность роста. Там, где они видят тающую льдинку, он видит растущие крылья. Там, где они пытаются закрыться от захвата, Сократ раскидывает руки для полета.
Несмотря на наличие точек соприкосновения в основе, между эротическими воззрениями Сократа с одной стороны и традиционными настроениями греков и взглядами Лисия с другой имеется огромная разница. Платону замечательно удалось передать это отличие одним-единственным образом. При помощи крыльев в традиционной поэзии Эрот атакует ни о чем не подозревающего влюбленного, чтобы отобрать у него контроль над душой и телом. Крылья – инструмент, которым наносится вред, символ силы, которой невозможно сопротивляться. Стоит тебе влюбиться, перемены на крыльях проносятся сквозь тебя, и ты больше не владеешь величайшей драгоценностью – своей личностью.
Мы уже видели, как Сапфо описывает потерю себя во фрагменте 31. Как только желание подчиняет себе ее тело, рассудок и функции восприятия, она говорит eptoaisen — нечто вроде «оно дает моему сердцу крылья» или «сердце внутри меня парит». Анакреонт описывает схожее ощущение и приписывает его тем же причинам:
ἀναπέτομαι δὴ πρὸς Ὄλυμπον πτερύγεσσι κούφῃς
διὰ τὸν Ἔρωτ᾽· οὐ γὰρ ἐμοὶ < > θέλει συνηβᾶν.
Я лечу высоко в небо к Олимпу на легких
крыльях из-за эроса;
ведь [тот, которого желаю] не хочет делить
со мной свою юность.
(PMG, 378)
В схожих формулировках Алкей описал желание, которое свело с ума Елену:
κἀλένας ἐν στήθ [ε] σιν [ἐ] πτ [όαις
θῦμον Ἀργείας Τροΐω δ [.].αν [
ἐκμάνεισα ξ [ε.] ναπάτα πιπ [
ἔσπετο νᾶϊ
[Эрос] заставил сердце Елены на крыльях порхать в груди,
и она потеряла голову от троянца и поехала с ним за море…
(LP, fr. 283.3.6)
В эллинистические времена значимость крыльев Эрота стала поэтическим топосом, примером чему служит такая эпиграмма Архия:
“Φεύγειν δεῖ τὸν Ἔρωτα” κενὸς πόνος· οὐ γὰρ ἀλύξω
πεζὸς ὑπὸ πτηνοῦ πυκνὰ διωκόμενος.
“Надо бежать от Эрота”, но тщетны попытки
бежать:
Он мчит на крыльях, а я еле влачусь пешком!
(Anth. Pal., V, 59)
Платон берет традиционный образ крыльев Эрота и переосмысливает его. В его концепции крылья – не враждебное орудие вторжения. Они естественным образом укоренены в каждой душе, наследие ее бессмертного начала. Наши души некогда порхали на крыльях среди богов, питаясь бесконечным восторгом от созерцания реальности. Ныне же мы изгнаны из тех мест и не знаем той жизни, однако порой вспоминаем ее – когда видим красоту или влюбляемся (246–251). Более того, в нашей власти вернуть ее себе при помощи крыльев души. Сократ описывает, как при надлежащих условиях вырастают крылья – достаточно сильные, чтобы отнести душу обратно, к божественным началам. Когда влюбляешься, испытываешь разные ощущения, приятные и болезненные: это начинают расти крылья (251–252). Это ты начал становиться таким, каким задуман.
Начала жизненно необходимы. Теперь становится понятнее, почему Сократ так стремился их отыскать. Для Сократа момент начала эроса суть проблеск бессмертного «начала», то есть души. «Сейчас» желания – ствол света, который погружен во время, но вздымается во вневременное пространство, в ту реальность, где пируют боги (247d-e). Когда вы оказываетесь в «сейчас», вы вспоминаете подлинную, божественную жизнь. Есть нечто парадоксальное в этом «воспоминании» о времени без времени. В этом парадоксе и заключается основное различие между эротическими теориями Лисия и Сократа. Лисий страшится парадокса желания и вычеркивает его вовсе: для него всякое эротическое «сейчас» – начало конца, не более. Он предпочитает неизменное, нескончаемое «тогда». Сократ же взирает на парадоксальный момент, называемый «сейчас», и замечает в нем любопытное движение. В точке, где начинается сама душа, кажется, раскрывается слепая зона. И в ней исчезает «тогда».
Бог может. Но ответь мне, как же нам
идти за ним? Неполнозвучна лира
В разброде чувств [69].
Р. М. Рильке, «Сонеты к Орфею»
Крылья знаменуют разницу между смертной и бессмертной историями любви. Лисий страшится начала эроса, поскольку считает, что это на самом деле начало конца; Сократ же в начале ликует: ведь, согласно его убеждениям, конца не будет. Таким же образом наличие или отсутствие крыльев в истории любви определяет стратегию влюбленного. Скупая, смертная sōphrosynē (256e), какой измеряет Лисий свой эротический опыт, – по сути, тактика защиты от изменений в себе, которые влечет эрос. Перемены – это риск. Что же оправдывает этот риск?
Что касается отрицательных последствий, в «Федре» приводится несколько образов существования без перемен. Мидас, цикады и сады Адониса чуждаются процесса жизни во времени и остаются неизменными. Эти образы безотрадны; в лучшем случае, эти существа «умрут незаметно для самих себя»