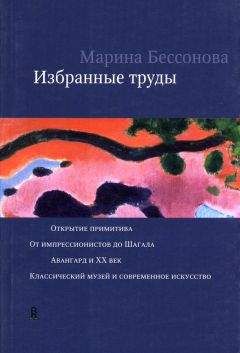в создании синтетического произведения. В этом отношении он был солидарен и с поэтами-символистами, и с А. Скрябиным, которого постоянно занимали проблемы синтеза. Но в отличие от Скрябина или Вяч. Иванова Кандинский в качестве монументального искусства предлагал не мистерию, не массовое действо, а сценическую композицию, обоснованию принципов и возможностей которой он посвятил специальную статью, реализовав одновременно эту идею в ряде сочинений, из которых было опубликовано лишь одно — «Желтый звук». Кандинский верил, что тройственный союз музыкального, живописного движения и динамики художественного танца откроет путь к созданию подлинно монументального искусства. «Желтый звук», воплотивший идею противостояния традиционной опере и появившийся почти одновременно с шёнберговской «Счастливой рукой», сыгравшей важную роль в обновлении основ музыкального театра, также явился свидетельством серьезных преобразований театрального искусства.
Все те сопоставления идей Кандинского с теоретическими положениями, выдвинутыми поэтами-символистами, которые мы привели, можно было бы завершить еще одним. Как известно, в русском символизме вполне различимы два генеральных пути, отрефлексированных теоретиками. Вяч. Иванов вынашивал идею реалистического символизма. Символизм Андрея Белого можно было бы назвать идеалистическим. Между тем оба эти варианта уживались рядом друг с другом не только в поэтической практике, но и в теоретических изысканиях. Думается, что можно провести параллель между этим двуединством и той формулой, которую провозгласил Кандинский в статье «К вопросу о форме», обозначив единую цель «великой реалистики» и «великой абстракции».
В связи с этим положением следует заметить, что в целом для Кандинского характерно тяготение скорее к сближению, чем разъединению разных, иногда кажущихся противоположными понятий и категорий. Он соединял одной великой целью реалистику и абстракцию, интуитивизм и рационализм; констатируя противоположность искусства и природы, тем не менее намечал связь между законами природы и живописью — даже абстрактной; разделяя виды искусства в соответствии с их спецификой, подчеркивал общность тех задач, которые перед ними стоят. Он ощущал единство земного и космического бытия, угадывал некую пред-жизнь в мертвой природе. Все эти особенности мышления Кандинского заставляют вспомнить идею положительного всеединства В. Соловьева, а также то движение навстречу друг другу науки, искусства, философии, религии, которое стало своеобразной традицией русской мысли.
Среди работ, опубликованных в настоящем издании, много таких, в которых Кандинский говорит о собственных произведениях и о своем искусстве. Пожалуй, среди великих мастеров начала XX в. нет другого художника, который подвергал бы такому глубокому анализу свое собственное творчество. Здесь вряд ли мы можем констатировать принадлежность художника к какой-то национальной традиции. Этот опыт самоанализа Кандинского скорее близок западноевропейскому навыку саморефлексии. В коротких статьях художник с большим проникновением подвергает анализу свои композиции, раскрывая их замысел, демонстрируя путь к его реализации. В «Кёльнской лекции» он повествует о своем становлении как художника. В «Ступенях» рассказывает о творческом процессе. Наконец, за анонимным героем-пророком, не понятым современниками, но находящимся едва ли не на самой вершине треугольника, описанного в книге «О духовном...», угадывается фигура самого Кандинского. Такая уверенность самого художника в своей правоте небезосновательна, о чем свидетельствует весь последующий опыт изобразительного искусства.
Степень писательской активности Кандинского заметно снизилась после 1914 г. Отъезд из Германии в Россию предопределил многое. Необходимо было и оглядеться, и вновь проанализировать возможные пути собственного художественного развития; при всей интенсивности и многосложности поисков закон «медленно спешить», близкий Кандинскому, сработал. Это коснулось не только количества разных публикаций, которое сократилось, но и живописных работ; так, самих картин было написано тогда немного. Такая ситуация у художника бывала и раньше, когда он, например, с 28 июня 1906 г. по 9 июня 1907 г. «отсиживался» в Севре, под Парижем, до этого путешествуя по Италии и Швейцарии. Тут же дело определялось не только тем, что Первая мировая война существенно повлияла на мировоззрение всей европейской интеллигенции (а иначе и быть, собственно, не могло), кардинально меняя представление о судьбах людей, а вместе с тем и характере искусства, его задачах. Важным представляется и получившееся вольно или невольно совпадение биографических поведенческих мотивов мастера и общей политической и социальной ситуации. Некоторая приостановка в развитии творческих принципов была просто необходима; так поступил не только Кандинский, но и большинство мастеров его времени. У художника это было заметно по эволюции живописи (примечательно обращение к колористическому реализму в 1916-1917 гг.) и по его текстам, появившимся в печати начиная с 1918 г., с их переосмыслением прошлого и с наметками многообещающего пути вперед.
* * *
«Ступени» — так называл автор в 1918 г. русскую версию своей биографии «Rückblicke» [9] (München, 1913), что неслучайно, симптоматично и символично. Кандинский стремился к пропаганде и утверждению своих идей. До этого он хлопотал о появлении в России «О духовном в искусстве» — той книги, в которой сказанное им «Сезам, откройся!» относилось к кругу наболевших вопросов. Ему хотелось, чтобы и «О духовном...», и «Текст художника» (другое название — «Ступени») были изданы в Москве одновременно. Эффект, конечно, мог быть велик. Так как новое искусство явно развивалось «не по пути Кандинского», и ни последователей, ни учеников у него тогда не имелось (с Габриэле Мюнтер он расстался), а критика становилась существенной (достаточно вспомнить хотя бы статью Н. Лунина в журнале «Аполлон» за 1917 г. [10] и отношение К. Малевича и его школы, все более и более авторитетной), то, понятно, это стало, на его взгляд, необходимо.
«Ступени» в понимании Кандинского не теологичны и не теософичны, не есть «лестница, восходящая на небо», или степень духовного познания трансцендентного, астрального, но они — музыкальны, являются диалектичным соотношением мажора и минора, как в жизни и как в искусстве. По-немецки это звучит как «Klangstufe», то есть как «лестница звуков». Вспомним, что поэтический сборник художника назывался «Klänge», а сам мир звуков («Звуки» — русское название сборника) его завораживал, причем с детства. Слова «гамма», «лад», «строй», «тон» характерны для лексики Кандинского, а они и составляют основу «ступеней» звукоряда. В «музыкальной лестнице» важен «скачок» (как не припомнить тут стихотворную строку из «Звуков»: «...за этим белым скачком опять белый скачок...»). Восхождение понималось достаточно широко, чуть ли не как универсальный принцип. Тем более учтем, что второе название «Ступеней» — «Текст художника». Оно декларативно указывает на авторскую позицию — позицию художника, который и собственную биографию рассматривает с точки зрения своей «Эстетики».
Так и двигался вперед Кандинский. По «ступеням» жизни, искусства и своей теории. В связи с выставкой «Салон В. Издебского» в Одессе в 1911 г., на которой ретроспективно было экспонировано 54 работы мастера, в газете «Одесские новости» появилась статья анонима (надо думать, самого