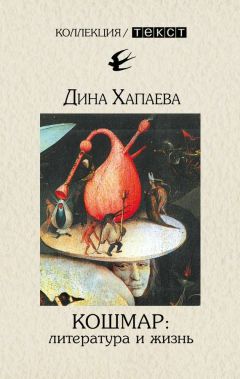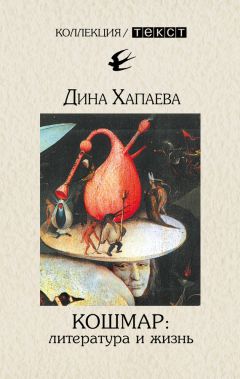И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.
М. БулгаковТолкование кошмара. Томас Манн. «Иосиф и его братья»
Помимо интереса к кошмару, между нашими авторами — Гоголем, Достоевским и Томасом Манном (поклонником Достоевского и читателем Гоголя) — есть и другое сходство. H. В. Гоголь был, как известно, крайне суеверен, вероятно унаследовав эту черту от своих набожных родителей, веривших в пророческие сны. Ф.М. Достоевский верил в свою способность предсказывать будущее — вполне возможно, именно поэтому пророческие сны периодически снились его героям. Томас Манн верил в то, что он родился под счастливой звездой, как это следовало из гороскопа, составленного в день его появления на свет. Он сравнивал себя в этом с Гете и, как известно из его переписки, оделил Прекрасного Иосифа, — красивого и прекрасного сновидца, любимца Иакова, рожденного им от праведной Рахили, которого завистливые братья сначала бросили в колодец, в затем продали в Египет, где он, через много лет, смог разгадать сны фараона и спасти великую страну от голода, безмерно возвыситься и стать правой рукой фараона, — точно таким же гороскопом, каким обладал сам. Манн верил в магию чисел и дат своей биографии и считал, что обладает даром пророчества, во всяком случае, применительно к своей собственной судьбе. По воспоминаниям его сына Голо, «число 7 он считал своим числом и располагал важнейшие для себя веши так, чтобы они совпадали с семеркой, — например, Ганс Касторп остается в Давосе на семь лет; или, например, он сам верил и предсказал в одном автобиографическом очерке, что умрет семидесяти лет от роду» [464].
Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад! В глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнея, в бездонный и непроглядный колодец прошлого. Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце… и не только от любопытства, но и от плотского страха? Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? (…) Потому, наверное, что та стихия минувшего, к которой мы привыкли и которая нас так далеко, весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, — от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже и куда уже довольно глубоко уходят ее начала. Умереть — это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни — настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. (…) Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое, на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и испуганная бледность… [465]
Разверстая пасть колодца, жерло засасывающей воронки, при одной мысли о бесконечной глубине которой кружится голова, воронки, куда нас влечет, наперекор инстинкту самосохранения и здравому смыслу, мучительное любопытство, характерное сердцебиение, частый спутник кошмара, ужас поджидающей там, внизу, преисподней — случайно ли под пером Манна возникает этот, так хорошо знакомый нам образ? Куда влечет нас этот спуск? Откуда, действительно, не только эта испуганная бледность, но и колотящееся, как у всякого сновидца, застигнутого кошмаром, сердце? Почему Манну потребовалось наполнить образ истории знакомыми нам элементами гипнотики кошмара?
Томас Манн многократно говорит на страницах «Иосифа» о том, что начала истории, сошествие в глубь веков — это «путешествие в ад», конечно, не в христианский ад, но в древность, которая есть синоним первородного кошмара, населенного чудовищными динозаврами [466]. Ибо в началах истории, теряющихся в бесконечности, где уже нет никаких начал, была катастрофа.
И правда, становится все несомненней, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретающие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется в глубь времен [467].
История человечества, предстающая как история катастроф, — мысль, которая, особенно по мере погружения Германии в мрак фашизма, не перестает занимать Манна, — оправдывает сходство истории с уже свершившимся наяву кошмаром, но, как мы увидим, не исчерпывает его.
Ибо интуиция Манна способна увести еще дальше: ведь, погружаясь в историю, мы имитируем путешествие назад во времени. Историописание позволяет нам смоделировать опыт переживания обращенного времени, — времени, текущего вспять. И не в том ли состоит притягательность истории, что, симулируя в комфортных условиях и безо всякого очевидно риска это путешествие назад во времени, против потока времени, мы под видом позитивного знания воспроизводим переживание глубинного внутреннего иррационального опыта — опыта кошмара? Спускаясь в глубь времен мы попадаем, в точном смысле слова, не в свое время.
Возможно, именно этот опыт разложения кошмара историей, попытку его приручить и рационализовать, Полю Рикеру следовало бы назвать «историографической операцией» [468]. Не непосредственный страх перед смертью как причина тяги к истории, о чем много размышляли европейские интеллектуалы от Фридриха Ницше до Люсьена Февра, а стремление поставить под контроль другой, не менее значимый внутренний неконтролируемый опыт, который равно близок и к безумию, и к смерти, — не это ли один из истоков «исторического чувства»?
У истории и кошмара в изложении Томаса Манна обнаруживается еще одно удивительное сходство: жерло колодца времени изрыгает чудовищ. Порождения кошмара, чудища со звериными головами на человеческих телах, оказываются… древними богами!
Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов… [469]
Священные монстры, ужасы мифа, все эти Тоты, Анубисы, а также античные Гидры, Тифоны и Минотавры — так воплотился кошмар в мифе, так в древности он нашел способ материализоваться, отлиться в определенные формы [470]. «Во времена зарождения культуры, — писал Ницше, — человек поверил в то, что открыл в сновидениях вторую реальность, — таково происхождение метафизики. Без сновидений человеку никогда не удалось бы изобрести такого разделения мира. Отделение души от тела — еще одна интерпретация снов, так же как и вера в призраков и, возможно, в богов».
Томас Манн, поклонник Ницше, не просто размыто намекает на такую связь: кошмар Иакова позволяет нам увидеть, как из сна соткался бог Ануп, чтобы поведать Иакову страшное пророчество, понять и распознать которое отец Иосифа смог только много позже. Ибо, как и Усир перепутал Небтот, жену Красного Бога смерти, с Исидой, своей женой, и зачал с ней Анупа, так же и сам Иаков, обманутый тестем Лаваном, совокупился с некрасивой старшей сестрой Лией в ночь своей свадьбы, а не с красавицей Рахилью.
Сейчас мы увидим, как мифологическое чудовище рождается из духа кошмара, а «сон разума рож дает чудовищ»:
Иакову примерещилось, будто бегство его из дому не то продолжается, не то повторяется; будто он снова должен въехать в красную пустыню, а впереди него, лежевесно вытянув хвост, трусит рысцой остороухий, с головой пса, оглядывается и посмеивается; все это одновременно продолжалось и повторялось; не получив некогда настоящего развития, эта ситуация восстановилась, чтобы найти завершение. (…) Нечистый зигзагами обегал валуны и кусты, исчезал за ними, показывался опять и оглядывался. Когда тот однажды исчез, Иаков прищурился. И только он прищурился, как это животное оказалось вдруг перед ним: оно сидело на камне и все еще было животным, если судить по его голове, скверной собачьей голове с навостренными ушами и клювообразной вытянутой мордой, оскал которой доходил до ушей; но тело, вплоть до почти незапылившихся пальцев ног, было у него человеческое и приятное для глаза, как тело тонкого и легкого мальчика. (…) Но уже на узких плечах, на верхней части груди и на шее у бога росли волосы, переходившие в глиняно-желтую шерсть песьей головы с широким разрезом пасти и маленькими, злобными глазками, головы, которая подходила к нему так, как может подходить безобразная голова к статному телу, каковое она печальным образом обесценивает, так что все это, нога, и грудь, только могли бы быть миловидны, но при этой голове миловидны не были. К тому же, подъехав поближе, Иаков услышал во всей его остроте едкий шакалий запах, самым печальным образом исходивший от этого полупса-полумальчика. И уж совсем печально и странно, когда тот раскрыл свою пасть и заговорил надсадным, гортанным голосом: