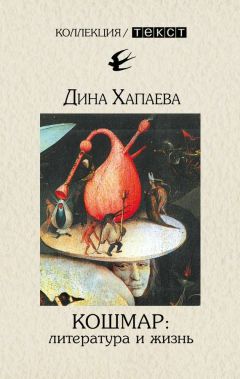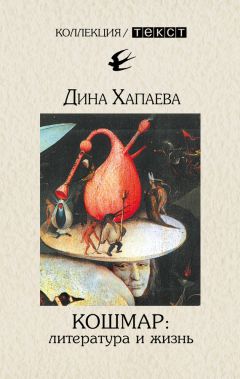Шар катится, и никогда нельзя будет установить, где берет начало какая-то история — на небе или на земле. Истине служит тот, кто утверждает, что все они соответственно и одновременно разыгрываются здесь и там и только нашему взгляду кажется, будто они опускаются вновь и вновь поднимаются. Истории опускаются, подобно тому как Бог становится человеком, они становятся земными и, так сказать, обмениваются [480].
Само название «вечное настоящее», подчеркивающее его неизменный характер, мешало задуматься о других свойствах времени мифа. Разве не скольжение назад во времени помогало героям Манна спутать их собственную жизнь и миф? Но обращение времени вспять возможно только из момента его разрыва, когда прервалось его необратимое течение в будущее.
Образ катящегося шара был любимой метафорой Томаса Манна для описания вечного настоящего. Его обращение, в котором утрачивалось различие между верхом и низом, земным и божественным, покоилось на представлении о непрерывном времени, исключая мысль о его разрывах. Но разве не в результате именно такого разрыва Иосиф мог «мечтательно забыть» о том, сколько поколений отделяет его от его предка, Урского странника, и вообразить себя им, в чем, с точки зрения Манна, и состояла важная особенность мифологического сознания?
Опыт прерывности внутреннего времени субъекта известен нам из нашей повседневности. К нему относится сон, но также и обморок, потеря сознания, ситуации, когда во сне или наяву вдруг становится «темно». Вспомним выпадения из времени, от которых так страдал г-н Голядкин. Амнезия или эпилептический припадок тоже являются формами разрыва собственного времени субъекта. Потеряв сознание, мы «приходим в себя», сохраняя память о единстве нашей личности. Но разве это является надежным свидетельством непрерывности времени? И куда именно мы возвращаемся, в какой момент собственного времени? В наше будущее? Или в наше настоящее? В прошлое? Которое мы «проспали», «пропустили», прозевали — иными словами, часть времени протекла мимо нас, пока мы не помнили? И не мог ли разрыв уничтожить, поглотить наше время?
Манн много размышляет на страницах «Иосифа» о разной насыщенности или разной скорости времени, о его разном качестве в разные эпохи [481]:
…значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории… [482]
Но неоднородность времени, обращающегося вспять, из которого выпадают его отдельные моменты, никак не вытекает из идеи вечного настоящего. Напротив, мысль о неоднородности подталкивает к идее разрыва.
Добавим, что, увлеченный реконструкцией мифологического сознания, Томас Манн видел свою задачу в том, чтобы освободить свой роман от линейной темпоральности. О том, что отказ от «естественной хронологии» стал важным композиционным принципом, к которому писатель прибегнул совершенно сознательно, он говорил в докладе, посвященном своему роману.
«Роман души с материальной формой» [483]
Идея Вечного Настоящего была важна Томасу Манну еще и потому, что она показывала взаимозаменяемость предания о событиях прошлого, с одной стороны, и пророчества, с другой. Ее писатель считал «корнем идеи перевоплощения» [484], идеи, которая позволяла ему ответить на вопрос — как, с точки зрения носителя мифологического сознания, боги могли становиться людьми, а люди — богами. Благодаря ей устанавливается тождество между мифологическими героями и героями романа, узнающими себя в предании, которое они стремились продолжить своими собственными жизнями, чтобы «полнее раскрыться и самовоплотиться»:
(…) налицо мировосприятие, видящее задачу индивидуума в том, чтобы наполнять современностью, заново претворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами [485].
Например, для Исава, старшего брата Иакова, «(…) благословление и проклятие были всего только неким подтверждением, что его характер, то есть его роль (роль Каина. — Д.Х. ) на земле, была определена издавна, и что он всегда прекрасно сознавал эту роль…его сознание опаленного солнцем сына преисподней (не было) лишь следствием его охотничьего призвания. Напротив, как раз наоборот, он избрал это занятие потому, что так ему и следовало поступить, то есть из-за своей мифической просвещенности, из покорности схеме» [486].
С точки зрения настоящего, сквозь которое «просвечивают все более далекие фигуры прошлого, теряющиеся среди богов, опять-таки восходящих в дальнейших глубинах времени к людям» [487], связь истории и пророчества проходит через миф, а именно через способность сознания ощущать свое собственное бытие как воплощение предания. Вечное настоящее, таким образом, устанавливало связь между историей и мифом, с одной стороны, и между историей и пророчеством, с другой.
Но проблема в том и состоит, что история Иосифа — новая история. Так же как и история Иакова, она не имела под собой, строго говоря, того предания, в котором она могла бы повториться и отразиться. Она так же уникальна, как и сны фараона, разгаданные Иосифом. Ибо даже сказание об Усири, растерзанном и воскресшем боге, о котором часто задумывался Иосиф Томаса Манна, было слишком абстрактно и слишком далеко от оригинальной истории о Прекрасном Иосифе. Поэтому объяснение пророческих снов посредством вечного настоящего, в котором оказываются едины предание и пророчество, смазывает оригинальность снов и дел, их единственность и случайность, их единичность. Ведь именно в этом и состоит, с точки зрения Манна, загадка пророчества кошмара.
Иосиф видит сны, которые прорицают ему всю его будущую историю, историю, которой предстоит быть рассказанной — в предании и в романе. Благодаря своим пророческим снам он оказывается как бы зрителем истории про него, Прекрасного Иосифа, и его братьев.
Разве человеческое «я» — это вообще нечто замкнутое, строго очерченное, не выходящее из четких границ плоти и времени? Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал и находится вне его, разве констатация, что тот-то и тот-то есть он самый и больше никто, не представляет собой допущения, сделанного лишь для удобства и для порядка, и умышленно пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим? В конце концов, идея индивидуальности находится в том же ряду понятий, что и идея единства, целостности, совокупности, общности, и различие между сознанием вообще и индивидуальным сознанием далеко не всегда занимало умы (…) [488]
Но Манн не ограничивается здесь модной в годы создания «Иосифа» идеей коллективного сознания. Его интересует не только понятие индивидуальности в его соотнесенности с коллективным. Он размышляет о единстве субъекта в горизонте данного ему собственного времени:
Ведь Иакову было суждено прожить сто шесть лет, и если ум его этого не знал, то тело его и душа его плоти знали это, а потому семь лет были для него хоть и не таким малым сроком, как для Бога, но все же и далеко не столь долгим, как для того, кому суждено прожить только 50 или 60 лет, и душа его могла относиться к ожиданию спокойней [489].
Кажется, что и природа пророчества связана с вопросом о границах человеческого «я» во времени — в прошлом, настоящем и будущем, равно как и с понятием индивидуальности этой связи:
…что касается пророческих указаний масла (…) звучали они одновременно и утешительно, и угрожающе, но так, наверное, и должно звучать заговорившее будущее, а оно, как-никак, прозвучало, хотя и невнятно, как бы не разжимая губ…ребенок попадет в яму и все-таки останется жив… вознесение главы из смерти… она не увидит звезды своего мальчика в высшей ее точке. (…) В лоне Рахили это решилось, только видеть этого еще нельзя было. Значит, существовало на свете определенное будущее, и то, что масло Риманни-Бела предвещало мальчика, было отрадно [490].
Получается, что будущее заключено внутри человека, внутри его индивидуальности, как индивидуальности биологической, так и индивидуальности случайностей и превратностей его судьбы. Об этом размышляет Иаков в романе:
Чем оно (пророчество. — Д.Х. ) было по природе своей — разгадкой грядущего, в котором ничего нельзя изменить, или призывом к осторожности, велящим человеку делать все от него зависящее, чтобы предотвратить несказанное несчастье? Последнее означало бы, что судьба не предопределена, что человеку дано влиять на нее. Но в таком случае будущее находится не вне человека, а внутри его, и как же оно тогда поддается прочтению? Часто, кстати, случается, что предупредительные меры прямо-таки навлекли на человека напророченную беду, которая, не прими он этих мер, явно не стряслась бы, так что и предостережение и судьба оказывались на поверку посмешищем демонов. (…) Но если лишить роженицу ухода, (…) как тогда ухитрится судьба сохранить верность своему доброму предсказанью и остаться самой собой? Тогда, наперекор судьбе, греховно восторжествовало бы зло. Но не греховно ли тогда добиваться наперекор судьбе торжества добра? [491]