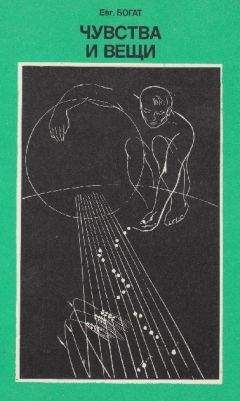И вот — не «травматолог» уже, а обыкновенный человек — вернулся я в «нормальный» город и увидел милые человеческие лица, услышал и в повседневности содержательную человеческую речь — рабочих, врачей, физиков, художников, музыкантов, студентов и ученых, ощутил будничную красоту жизни. Были переполнены залы театров и библиотек, и невозможно было, не позаботившись об этом заранее, достать билет на органный вечер в соборе. Я шел по городу, заходил в парки и книжные магазины и наслаждался нормальной жизнью, ощущая все полнее радость возвращения от патологии к норме.
В этот город, к этой жизни вернутся Виктория и Наташа. Что поняли они уже, что поймут ко дню возвращения? Не ошиблась ли судья Шагова, говоря о духовной работе, которая началась у Наташи? Не обманулась ли замполит Лидия Николаевна, когда писала о Виктории у себя в рабочей тетради: «Она осознает себя, лучшее в себе, все полнее, ее желание танцевать на большой сцене дает ей силы».
Но ведь сам же я видел: во время «концерта», когда Виктория танцевала вальс Шопена, на озаренном изнутри лице ее мелькнула улыбка счастья, да, именно счастья, там, в колонии. Она осязала нечто вечное, ради чего стоит жить, и исцелялась сердцем, это осязая.
А Наташа? Когда она в разговоре о «Войне и мире» задала вопрос: может ли быть счастлив человек, украв или зарезав, — не было ли это началом исцеления?[1]
Порой человек, лишь поранив что-то: ладонь колено, губу, начинает по-настоящему ощущать пораненным этим местом живую и саднящую телесность мира. То же самое относится, возможно, и к «фактуре» нравственных ценностей. Их саднящую силу ощущаешь иногда, лишь поранившись, — так Виктория почувствовала искусство, Наташа — любовь. Надолго ли? Окажет ли это могущественное воздействие на их дальнейшие судьбы?
Относительно нетрудно изменить поведение человека, но, меняя поведение, мы не меняем судьбы как не меняем направления ручья, кинув в его сердцевину увесистый камень или тяжкую ветвь ели: чуть изломившись, он обежит, омоет ее, не помышляя о новом русле… Иное русло — иной характер, а характер — это система черт, расположений и склонностей, — и, видимо, эту систему можно изменить лишь посредством изменения системы ценностей…
В 30-е годы начато было у нас издание серии романов «История молодого человека XIX века». По замыслу А. М. Горького эта серия должна была показать людям социалистического общества трагедию индивидуализма, его опустошающее воздействие на духовную жизнь и судьбу человека.
Индивидуализм не ушел, к сожалению, в небытие с XIX веком. Он не ушел в небытие и с рождением нового, социалистического мира. И не уйдет пока на земле будет существовать старый мир частной собственности и отчуждения, в котором вещи господствуют над чувствами и, чем более властно говорит в человеке «я хочу», тем фантасмагоричнее делается действительность. Сегодняшнее потребительское общество, разумеется, «сублимировало» тот страстный порыв буржуа к власти, деньгам и наслаждениям, который вел по жизни в XIX веке молодого героя западноевропейского романа, в формы более утонченные и сложные, но от этого не изменилась индивидуалистическая сущность мироощущения. Последователи более странных и сложных форм индивидуализма (те же хиппи) с полным основанием могут повторить формулу, высказанную давным-давно героем романа Синекура «Оберманн»: «Я блуждаю среди толпы, как человек, который оглох…»
Так же блуждали Виктория и Наташа… Один из западных философов XIX века заметил, что человек часто переживает «ужасы трагедии», будучи лишен величия трагических персонажей. В нашей истории «героини» пережили трагедию индивидуализма, будучи лишены величия героев Шатобриана или Стендаля. В повседневности они утрачивали то же человечески бесценное, что и те в высокой художественной действительности. И как Жульен Сорель лишь накануне казни, в крепости, понял, что только чувство человеческой общности возвышает человеческое сердце и делает жизнь осмысленной и высокой, так и Виктория и Наташа, будучи лишены величия трагических персонажей, поняли это в колонии, в ее однообразной повседневности.
Индивидуализм как образ жизни и как мировоззрение потерпел в этих судьбах очередной крах…
Хочется затронуть в настоящем повествовании и две темы, не имеющие непосредственного отношения к истории, о которой рассказываю, но тем не менее достаточно важные, по-моему, при осмыслении состояния нравственного воспитания молодежи.
Первая касается воздействия научно-технической революции. Ее успехи породили в психологии некоторых молодых людей нечто вроде интеллектуально-нравственного инфантилизма: им кажется, что наука и техника обладают поистине чудодейственной силой, которая все за них будет осуществлять, не требуя умственных и моральных решений. Судя по читательским письмам, появилось немало людей, желающих, чтобы даже личное счастье, испокон веков требующее труда души, риска, тяжкого выбора, безмятежно даровала им машина. Конечно, мечту о компьютере, который подыскивает жениха и невесту, надо рассматривать как явление анекдотическое, — гораздо опаснее интеллектуально-нравственный инфантилизм в повседневных человеческих отношениях. Нужно ясно осознать, что научно-техническая революция не снимает, а даже углубляет ответственность человека за нравственный выбор за те или иные моральные решения.
Второе: надо в общении с молодежью более полно раскрывать гуманистическое содержание нашей идеологии, показывать, что в ней содержатся великие нравственные ценности. Именно мы — наследники лучших, гуманистических традиций человечества, нашим непреходящим идеалом была и остается человечность.
«…Коммунистическая мораль, — говорил Л. И. Брежнев в речи на XVII съезде комсомола, — по праву наследует и развивает гуманистические нормы нравственности, выработанные человечеством».
Я старался исследовать «переломы» в судьбах моих «героинь» достаточно подробно. Из действующих лиц истории я не увидел лишь одного Эдмунда, «лучшего ударника Советского Союза», как писала о нем в «исповеди» Виктория, — его уже не было в живых. Поначалу мне казалось, что, не увидев его, я не пойму чего-то важного в жизни Виктории, пока не подумал: а разве она пошла за ним? Она пошла за его барабаном. И решил: пусть последнее, что увижу, и будет этот барабан. Потому, наверное, решил, что общение с криминалистами воспитало во мне уважение к вещественным доказательствам. И я захотел увидеть это «доказательство».
Когда я вошел в зал ресторана, где было торжественно-тихо, как в зале концертном, — люди за столиками, казалось, не ели, не пили, а слушали — «Собор» уже играл. Я посмотрел на барабан; он был наряден, как большая золоченая игрушка с боков, и порядочно потерт, точнее, вытоптан сверху. Жестокая вытоптанность его серой шкуры не сочеталась с диковинным изяществом рук музыканта.
Руки эти в самом деле были удивительны: странно удлиненные, безвольные — будто бы с наполовину стянутыми перчатками — пальцы отличались чисто обезьяньей грацией, которая изумляла, казалась неестественной именно потому, что не было на них шерсти. Они мерно колдовали, почти неслышно били в барабан, топтались на нем, изнутри формируя ритм оркестра. И, может быть, от того, что удары были неслышны, обнаженность этих неестественно изящных рук выглядела неприличной, даже непристойной, как выглядели бы суфлеры, вдруг в телесной яви обнаружившие себя перед залом.
Я захотел увидеть лицо ударника, но оно было непроницаемо занавешено волосами; он играл упоенно, в наклон к барабану, и волосяная завеса шевелилась, как занавес, который только что опустили. И как в детстве при посещении театра закрытый занавес, лишь усиливает любопытство, так и сейчас мне захотелось особенно увидеть его лицо в тайной и подлинной сути. Что там — безумие экстаза или молитвенная сосредоточенность? Пожалуй последнее, решил я. Ведь сосредоточенностью этой дышал и зал ресторана; теперь он напоминал даже не концертный зал, а, пожалуй, церковь или, точнее сокровенный, молитвенный дом — по особой тишине, выражению избранничества, самоуглубленности лиц, юных, почти детских. И я понял наконец, что в самом этом имени — «Собор», — казалось бы для джаза кощунственно нелепом, нет ни иронии, ни вызова, оно избрано совершенно серьезно и совершенно искренне.
А удары в барабан из неслышных, еле ощутимых делались сильнее, отчетливее. Оркестр, не желая уступать ему, навязчиво, с маниакальным постоянством повторял одну и ту же фразу. В этой музыке царили абсолют бесцельности и симуляции страсти.
Я подумал о том, что в нас пульсируют воспоминания о состояниях человеческой души в разные эпохи, богатство этих воспоминаний. Философская же суть этой музыки и состоит в том, чтобы погрузить в усыпительную мгновенность, заставить забыть.