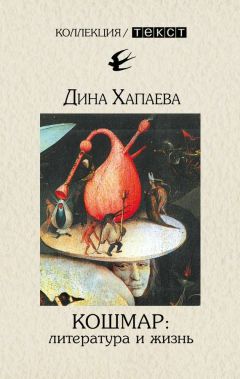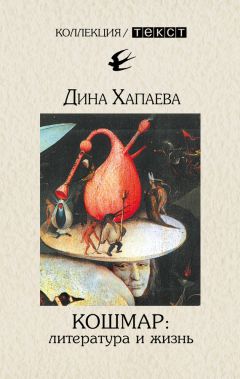Тогда, в середине XVIII — начале XIX в., целый ряд авторов вводят в литературу мистические мотивы, напоминающие кошмары. Но в целом готический роман, за исключением творчества Метьюрина, сравнительно слабо отражал особенности Готической эстетики. У большинства представителей этого жанра недоставало решимости порвать с человеком — центральной фигурой эстетики Нового времени. Примером может послужить «Франкенштейн» Мэри Шелли, в котором человек и нелюдь были четко противопоставлены, в чем справедливо видят отражение философских и, прежде всего, естественно-научных споров о природе человека и о границе человеческого, развернувшихся тогда в Англии [508]. Но главным героем, эмоции которого находятся в центре внимания и читателей, и писательницы, и от лица которого ведется повествование, по-прежнему был человек. Даже сказки Гофмана блекнут на фоне романа Метьюрина, ибо, сколь бы далеко ни уходили их главные герои в мир чудесного, они тем не менее оставались людьми.
Несмотря на то что готический роман вырастает из протеста против эстетики Просвещения [509], многие авторы, принадлежавшие к этому течению, были неспособны отказаться от приверженности рационализму. Ярким примером этого является творчество Анны Радклиф. Насколько бы схожими поначалу ни казались ее романы с подлинными кошмарами, описываемые в них ужасные, иррациональные события всегда находят себе абсолютно рациональное объяснение. Характерно, что эта «мягкая» версия Готической эстетики, возможно, именно в силу своей неоконченности и недосказанности пользовалась большей популярностью и легче воспринималась даже тогда, когда казалось, что готический роман, а вместе с ним и ростки Готической эстетики постепенно вышли из литературной моды, поникнув в тени таких мощных соперников, как романтизм и реализм и уступив им пальму первенства.
В истории развития Готической эстетики творчество Гоголя занимает особое место [510]. Свидетельством причастности Гоголя к началам Готической эстетики является тяжба, которую он, как и другие участники этого течения — авторы готического романа, ведет с читателем об условности литературы, о границах литературного текста и о возможности их преодоления, разрушения, отрицания ужасом. Особенностью готического романа литературоведы называют неспособность рассказчика распознать, где кончается реальность и где начинается мистика [511]. Гоголь заставляет своего читателя различать одно от другого только по команде автора, который полностью овладевает чувством реальности своего читателя. Героем-сновидцем кошмаров Метьюрина, несмотря на все его эксперименты с темпоральностью кошмара, остается литературный персонаж, тогда как Гоголь переносит свои опыты в сознание читателя.
Подлинным новаторством Гоголя стало превращение подопытного читателя в центральное действующее и переживающее лицо в повествовании [512]. Надо сказать, что читатель гоголевской поры с удовольствием шел навстречу пожеланиям автора. Жажда невероятного, необычного, небанального у читающей публики была важным условием гоголевских опытов. Читатель был готов отдаться автору и стать подопытным ради того, чтобы познать новые, невиданные эмоции. К тому же он тоже еще не понимал, на что способна литература, и с удовольствием становился — пусть и практически бессознательно — участником столь захватывающего действа. Гоголь впервые показал подлинную силу воздействия литературного кошмара на читателя.
Интересно отметить, что, несмотря на достаточное четкое разграничение людей и нечисти в сочинениях Гоголя, готические нелюди повсюду мерещились проницательному читателю и биографу Гоголя Набокову, чувствовавшему в Гоголе мощный «готический потенциал», причастность к готическому будущему культуры. Набокову слышится, как из бормотанья городничего «рождается вереница поразительных второстепенных существ» [513], он видит, как гоголевская фраза «корчится, рождая псевдочеловеческое существо» [514]. Слово Гоголя кажется ему этаким рассадником нелюдей, где прямо из обычных слов являются гомункулы и мнятся Набокову полчища «…бесчисленных гномиков, выскакивающих из страниц этой книги» [515].
В отличие от той части европейской литературы XIX в., которая будет утверждать свою значимость, доказывая свою способность отражать и анализировать «правду жизни» или «социальную реальность», Гоголь задается вопросом о хрупкости границы между реальностью, с одной стороны, миром художественного текста и кошмаром, с другой, и о принципах их описания, которые вовсе не были ему ясны [516].
Парадоксальным образом то, что принято называть «реализмом в литературе», сыграло, вероятно, не последнюю роль в вызревании тех перемен, которые переживает современная культура. Вероятно, никто не сделал больше для размывания границ реальности и для распада самого этого понятия, чем «великие реалисты» — Толстой и Достоевский. Они создали произведения, литературная реальность которых подменила собой в одном случае реальность истории, а в другом — реальность психологического переживания. Вполне возможно также, что великий роман как жанр оказался в кризисе тогда, когда в последней трети XX в. восприятие литературы и жизни как отличных друг от друга реальностей было окончательно размыто.
Достоевский, продолживший литературные опыты с кошмаром, резко изменяет перспективу по сравнению с Гоголем. В его прозе кошмар становится способом вовлечь читателя в эксперимент, который автор ставит над героем, а не принудить читателя бессознательно пережить кошмар под видом чтения романтической истории, как это делал его предшественник. Цель эксперимента Достоевского — заставить читателя безотчетно сличать переживаемый героем кошмар со своими собственными доречевыми, довербальными эмоциями, которые и являются подлинным истоком кошмара. Достоевского в исследовании кошмара, настигающего его героев во сне и наяву, интересует не «дискурс», не «диалог», одним словом, не слова, с помощью которых герои повествуют о своих эмоциях. Особенность его прозы состоит в том, чтобы позволить читателю сопоставить достоверность описанного в тексте с его собственными переживаниями, распознать тот глубинный и невыразимый эмоциональный опыт, который иначе скрыт от него потоком языка. Звукопись кошмара приводит к созданию прозы, способной моделировать бессознательные подлинные психологические реакции читателя, о существовании которых читатель мог и не подозревать.
В молодости Достоевский стоит перед созданием того, что позже будет названо «психологическим романом», но что было бы точнее назвать «романом ментальных состояний». В отличие от Пруста, который почти полвека спустя напишет роман, посвященный воссозданию воспоминания, или от Джойса, который будет заниматься в своей прозе воссозданием потока сознания, таким ментальным переживанием для Достоевского является кошмар. В выборе предмета, на который направлен их интерес, заключена колоссальная разница между задачами этих авторов и Достоевского. Джойс и Пруст пытаются понять, как реальность преломляется в нашем сознании и конструируется нашими чувствами и эмоциями, какие изменения она претерпевает в ходе этого конструирования. Иными словами, они исходят из рационалистического проекта. Напротив, Достоевский идет в прямо противоположном направлении. Достоевский интересуется тем, как мы воспринимаем и переживаем кошмары, являющиеся, так сказать, противоположностью реальности.
Здесь снова приходится обратить внимание на неадекватность понятия «реализм» применительно к литературе. Ибо с точки зрения передачи подлинности переживаний романы и Пруста, и Джойса, и Достоевского все можно счесть реализмом, поскольку все они в равной степени описывают совершенно достоверный психологический опыт [517]. Во всяком случае, если Достоевского и следует считать «реалистом», то только потому, что он никогда всерьез не ставил под сомнение реальность кошмара.
Проза Достоевского значима для литературной истории кошмара еще в одном смысле. В своих поздних произведениях Достоевский прямо заглядывает в готическое сегодня, создавая художественные приемы описания нелюдей, которые оказались широко востребованы в современной литературе. В кошмаре Ивана Федоровича в «Братьях Карамазовых» изображение черта строится на ироническом контрасте между приземленными деталями прозаического быта людей и внеземной природой не нуждающегося в них, иронизирующего над ними нелюдя:
Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще бог знает где, и, чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство… конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то… словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердию, — ведь это такой мороз… то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! [518]