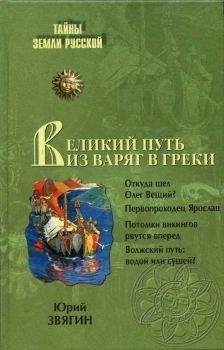Если проследить дальнейшее развитие европеизма в XVII веке, то можно обнаружить интересную закономерность. Известные нам русские энтузиасты Запада появляются через равные промежутки времени, необходимые и достаточные для смены одного поколения, — приблизительно через каждые 25 лет[61]. Вторая волна европеизма (1640–1650-е) связана прежде всего с именем боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина (ок. 1605–1680), хотя “тихих” деятелей преобразования в направлении Европы было больше[62]. Ордин-Нащокин по времени своего рождения мог быть сыном Хворостинина. Но это был человек совершенно иного склада: европеизм не превращал его в “лишнего человека”. Выдающийся дипломат, приближенный царя, он был европейцем в душе и у себя дома, но на людях старался придерживаться принятых в “благонравной” Москве норм поведения; иначе он вел себя с иностранцами, которым он казался европейцем в московской одежде. Понимая необходимость реориентации России на Запад, он, однако, опасался последствий радикальных мер и ограничивался насаждением просвещенной бюрократии и меркантилизма[63]. Умеренность Нащокина, на наш взгляд, во многом объясняется личными причинами: в молодости он не был сознательным свидетелем исторических катаклизмов, что пришлось на долю Хворостинина.
Сын Ордина-Нащокина Воин, воспитанный в атмосфере преклонения перед иностранным, к полному отчаянию родителя, бежит на двадцатом году жизни за границу, прокладывая путь длинной веренице русских политических эмигрантов. В отличие от отца, Воин Нащокин нес в себе все черты отчужденного “лишнего человека”: сначала его “окончательно стошнило” в Москве, но потом трудно было и в Польше. Не найдя себе подходящего занятия, оставшись без средств к существованию, он пишет покаянное письмо и, прощенный государем, возвращается в Россию, чтобы дожить оставшиеся годы воеводой в захолустье. Плеханов назвал Воина одной из первых жертв поворота Москвы к Западу[64]. В его судьбе легко увидеть черты, которые позднее повторятся у И.В.Головина, Н.И.Сазонова, Герцена и у целого ряда эмигрантов, которым суждено было пережить подобную психическую эволюцию — от внутреннего неприятия русской жизни они резко переходили к отрицанию западной, которая оказывалась по-своему несовершенной, не отвечавшей их утопическим ожиданиям. Настроения тоски, одиночества, душевного кризиса переживал и сверстник Воина Нащокина князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714), известный фаворит правительницы Софьи, человек не только европейски образованный, но и интересовавшийся последними новостями европейской мысли[65].
От поколения к поколению просвещенность и интеллектуальная развитость русских европейцев неизменно возрастает. Наряду с этим процессом дает о себе знать и другой — усвоение основ западноевропейской жизни выходцами из плебейских сфер. Свидетельство тому — судьба Григория Карповича Котошихина (ок. 1630–1667), автора известной книги “О России в царствование Алексея Михайловича”. Знаменательное обстоятельство: именно это сочинение послужило Белинскому непосредственным поводом для написания цикла статей, известных под общим заглавием “Россия до Петра Великого” (1841) и, по сути дела, представлявших собою первый манифест западничества. Безвестный писец, затем подьячий в Посольском приказе, Котошихин во время мирных переговоров со шведами в 1657 году был прикомандирован к русскому посольству в Дерпте под начало вышеупомянутого А.Л.Ордина-Нащокина. Познав шведские нравы во время поездки в Ревель в 1660 году, Котошихин начинает смотреть на московские порядки критически. Между тем в Москве его отец по доносу соседей был несправедливо обвинен в краже, за что у него самого (не у отца, а у сына!) отобрали дом и выгнали на улицу жену, что было немыслимо в тогдашней Европе и оказывалось вполне в порядке вещей в России. Чувство собственного достоинства у Котошихина было сильно уязвлено, а духовной силы для того, чтобы усмирить бунт оскорбленной личности, еще не было, как и не могло быть на данном этапе индивидуализации. Поэтому он становится шведским шпионом, а затем бежит в Польшу, но после безуспешных попыток служить тамошнему королю в войне против России поселяется в Стокгольме, где, подобно Воину Нащокину, не находит себе места и погибает глупейшим образом — во время пьяной драки66. Любопытно, однако, что у Котошихина бунт против московского “плюгавства” с позиции оторвавшегося от почвы энтузиаста Запада выражается в самой естественной для русского человека форме общественного и личного протеста — в форме литературного высказывания. Между строк его на первый взгляд протокольного отчета о разных сторонах жизни Московского царства пробивается горькая саркастическая усмешка человека, вкусившего от плода познания и отвергнутого своими “безгрешными”, “благонравными” соотечественниками.
К следующему поколению русских европейцев относится Петр I со своими сподвижниками. Трудно не только найти, но даже прочувствовать истину в обилии противоречащих друг другу характеристик и оценок его жизни и деятельности, которые представлены в обширнейшей литературе предмета. Даже если просто не рассматривать неославянофильские и евразийские инвективы Петру, то останется большое количество более или менее объективных исследований, авторы которых далеки от единодушия. Так, например, Плеханов вслед за авторитетным историком Н.П.Павловым-Сильванским развивал мысль о том, что преобразования Петра были вызваны не европеизмом царя, а чисто политическими и даже военно-техническими причинами: любой царь на месте Петра обязан был сделать то же самое, чтобы технологически модернизировать страну и тем самым спасти ее от грозящей военной и политической катастрофы. С этой точки зрения Петр был умелым и ответственным политиком, прагматиком — но не убежденным русским европейцем[67]. И в этом немало правды: Петр действительно гораздо свободнее чувствовал себя, общаясь с людьми практической сметки, а не с теоретиками, мыслителями68. Но ведь все-таки беседовал и с теоретиками — с Ньютоном, с Лейбницем. И даже если предположить, что все преобразовательные усилия царя были продиктованы честолюбивой мечтой о могуществе перед лицом иных просвещенных народов (то есть о победе), то и в этом случае дерзновенная — и подчас неоправданно жестокая — преобразовательная деятельность Петра имела в основе ясную перспективу будущего европейского развития страны, делая процесс европеизации на самом деле необратимым. И потому свести деяния первого русского императора к простому политическому прагматизму никак нельзя, как нельзя не согласиться с эффектной, но, в принципе, верной мыслью Герцена, согласно которому русский народ, обладавший чудодейственной “внутренней силой”, “на императорский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина”[69].
Легко, однако, попасть под влияние официально-державного или западнического мифа о гениальном царе-преобразователе, которому пришлось бороться с темными силами застоя и “реакции”. Особенно трудно освободиться от очарования этого мифа энтузиастам европейской России, которые в детстве с замиранием сердца читали очень хороший, но написанный в духе известной идеологии роман Алексея Толстого “Петр I”, смотрели хорошие фильмы, в одном из которых симпатичных Петров Первых играли талантливые актеры… И наверное, это не самый вредный русский миф. Но историку, в том числе историку культуры и историку идей, не позволительно оперировать мифологическими категориями. Этот выдающийся государственный деятель был, по всей видимости, не менее противоречив и в то же время не менее выразителен, чем самые выдающиеся русские писатели — Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский. С одной стороны, допустим, по его велению создается Академия наук, а с другой — строжайше запрещается дворянам переходить в духовное звание, благодаря чему религиозная жизнь нации почти полностью оказывается во власти малограмотных священников. С одной стороны, закладывается грандиозный фундамент новой национальной культуры, сыскавшей уважение всего мира (ведь без жестоких мер Петра не было бы ни Пушкина, ни Достоевского, ни Чайковского, ни Менделеева…), с другой же — под тот же самый фундамент закладывается грандиозная бомба замедленного действия: я имею в виду многочисленные общественные и государственные институты, в том числе бюрократическую иерархию чинов (Табель о рангах), а также сохранившийся от допетровских времен и лишь слегка усовершенствованный институт самодержавия, что создавало огромную напряженность в отношениях государства и с простым народом, и с интеллигенцией. А потому по-своему правы были и Герцен с Белинским, прославлявшие Петра, и Андрей Белый, подведший в романе “Петербург” неумолимо горький итог всему петербургскому периоду русской истории.