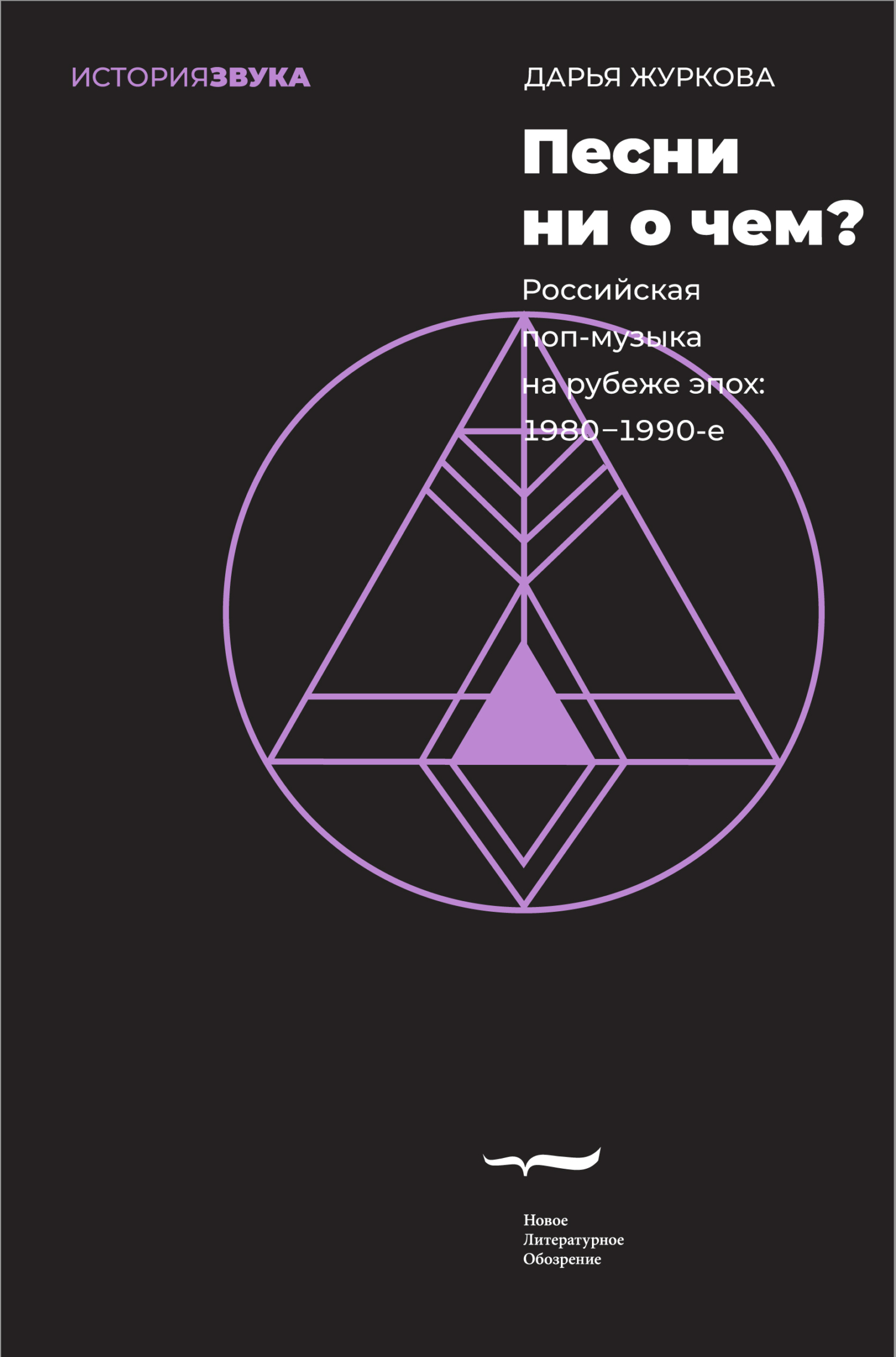труда в сторону идеи подлинного призвания становится концептуальной основой «Старых песен о главном – 3».
Третий выпуск воспевает поэтику труда, но делает это изнутри творческого процесса. Во-первых, даже если и встречаются герои условно нетворческих специальностей («разведчик» Агутин, «летчик» Меладзе), то они предстают в роли знаковых киногероев (Штирлица и Мимино, соответственно). Во-вторых, артистическое начало доминирует в самопрезентации, казалось бы, далеких от творческой среды героев. Артистом во что бы то ни стало стремится быть царь Иван Грозный (Юрий Яковлев), слоняющийся по коридорам «Мосфильма». Леонид Куравлев, замещающий царя в условном XVI веке 455, молит избавить его от этой должности. «Я – вор, а не царь! Тоже мне, нашли госслужащего», – заявляет герой, подразумевая, что авантюрная природа его истинной профессии гораздо ближе к творчеству, нежели рутина государственного делопроизводства.
Наконец, все остальные герои тоже самоотверженно трудятся на благо искусства. На протяжении выпуска возникает целых четыре кинорежиссера (Михаил Пуговкин вновь предстает в роли Карпа Савельевича Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»; Филипп Киркоров и Леонид Ярмольник мелькают в этом амплуа, а в самом финале возникает персонаж-реинкарнация Сергея Эйзенштейна). Самозабвенно в роли ассистента кинорежиссера сразу на всех площадках трудится героиня Чулпан Хаматовой. Алла Пугачева предстает в роли певицы-дебютантки, которая пробуется на роль и согласна ждать сколь угодно долго, пока ей уделят внимание. Закадровая кухня киносъемок и вообще артистического мира подается как крайне напряженный процесс, требующий непрерывной включенности и самоотверженности. Создание развлекательного продукта, оказывается, и есть самый тяжелый труд, несопоставимый по затратности сил ни с какой другой физической или интеллектуальной деятельностью.
Однако необходимо понимать, что поэтизация процесса киносъемки возникает не столько в попытке реконструировать дух советской эпохи, сколько в стремлении отразить всю сложность устройства и напряженность функционирования шоу-индустрии. Ведь, по сути, в условных декорациях «Мосфильма» (пере)снимают не советские кинохиты, а музыкальные видеоклипы по их мотивам. Детально воспроизводимая трудоемкость процесса напрямую корреспондирует отнюдь не с советской, а с современной эпохой. В ней художественное произведение понимается прежде всего как развлекательный продукт, производство которого – это не сакральный акт творчества, а отлаженный конвейерный механизм. Таким образом, тема труда вновь оказывается крайне востребованной, но получает совершенно иную трактовку. Во-первых, ударниками производства выступают не крестьяне и рабочие, а представители артистической богемы, – именно они становятся главными героями нового времени. Во-вторых, результат их труда начинает подразумевать не только материальное, но и не менее важное символическое выражение. «Продукт» артистической деятельности вполне нагляден – это шоу, «вторая реальность», но это не вещь, не предмет потребления, который можно купить в магазине.
Реальная экономическая ситуация девяностых годов остается за кадром, драпируется зрелищной феерией, и в этом плане чем-то напоминает «лакировку действительности» в сталинском кинематографе. Таким образом, в очередной раз подтверждается правило, согласно которому в периоды сильнейших социальных катаклизмов популярное искусство старается выстроить альтернативную сверхоптимистичную картину мира.
В попытке реконструкции духа советской эпохи обращались «Старые песни о главном» и к теме межличностных отношений. Именно искренние, теплые, доверительные отношения между людьми идеализировались и составляли основу ностальгии по советскому. Безусловно, предпосылки такого восприятия прошлого имелись в самой советской культуре, которая «содержала в себе некий внутренний посыл, установку на снимаемость-снятие-снятость отчуждения, причем не только в абстрактно-гуманистической, а (NB!) в конкретно-культурной и конкретно-исторической форме» 456. Продолжая свою мысль, Людмила Булавка указывает на то, что
именно сам процесс разрешения противоречий, снимающий те или иные формы отчуждения и осуществляемый – это принципиально важно – в настоящем <…> как раз и составляет суть художественной логики гуманистической тенденции советской культуры 457.
Очевидно, что к середине 1990‐х годов обратный процесс – нарастание отчуждения – в новом российском обществе достиг своего пика. Логика капиталистических отношений и курс на индивидуалистическое самосознание образовывали трудно формулируемую, но хорошо ощущаемую брешь в социальном климате страны. Первый выпуск «Старых песен о главном» стал катализатором ностальгических настроений именно потому, что пусть и в условной, идиллической форме возвращал утраченное чувство «большой семьи», давал ощущение безусловной расположенности, душевной открытости одного человека к другому вне привязки к социальному статусу. Вместе с тем эпоха девяностых, конечно же, накладывала свой отпечаток на реконструкцию таких добросердечных межличностных отношений.
«Старые песни о главном» старательно воссоздавали схемы коммуникации, характерные для советского времени, но современность нередко выдавала себя в иронии над самой возможностью искренних чувств. Для наглядности проследим описанную траекторию на конкретных примерах.
В первом выпуске проекта декорации советского колхоза позволили весьма убедительно воссоздать иллюзию добрососедских отношений. Транслировалась ситуация замкнутого сообщества, где все друг друга знают, где людям всегда есть о чем поговорить. Но вместе с тем в условной деревне процветали очень вольные взаимоотношения. Как констатировала Наталия Лебина, в 1930–1950‐е годы «в советской действительности официально провозглашались принципы целомудрия, которым, по меткому выражению известного российского демографа А. Г. Вишневского, „позавидовала бы и викторианская Англия“» 458. При реконструкции этого периода в первом выпуске создатели телепроекта пошли от обратного, активно переплетая персонажей с помощью адюльтеров. Так, герой Леонида Агутина попеременно обнимается в кузове своей машины то с Наташей Королевой, то с Ладой Дэнс; то намекает на благосклонность к Кристине Орбакайте. Столь же переменчивы симпатии героини Наташи Королевой, которая помимо Агутина крутит роман с Филиппом Киркоровым и строит глазки Олегу Газманову. Алена Апина то заигрывает с тем же Газмановым, то выступает в образе невесты Александра Малинина. Смена героем или героиней объектов симпатий в советских комедиях этого периода всегда в конечном итоге понималась как ошибка, подавалось как заблуждение, которое благополучно разрешалось в финале истории. В «Старых песнях о главном» любвеобильность персонажей носит тотальный характер, показывается как норма, не требующая оправдания и/или исправления. Примечательно, что здесь среди героев нет ни одной супружеской пары, все жители колхоза находятся на стадии ухаживания и лишь немногие имеют только один объект симпатий.
При этом кардинально переосмысливается пространство ухаживания. По наблюдению Татьяны Дашковой, в советских комедиях 1940–1950‐х годов
любовные отношения завязываются, развиваются и приходят к логическому разрешению (свадьбе) прилюдно. Причем коллектив (бригада, цех, сослуживцы) не только выполняет традиционную роль комментирующего «хора», но и активно вмешивается в ход событий, стимулируя главных героев к объяснениям и действиям 459.
В декорациях «Старых песен о главном», наоборот, для проявления любовных чувств используются предельно приватные пространства: кабина грузовика, лодочка в заводи кустов, закуток сарая. Схожие тенденции отмечает Юлия Лидерман в отношении всего российского кинематографа 1990‐х годов, реконструирующего советскую эпоху. В ретрофильмах той поры возникает длинный синонимичный ряд тесных пространств: комнаты в бараке,