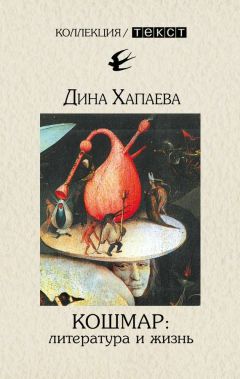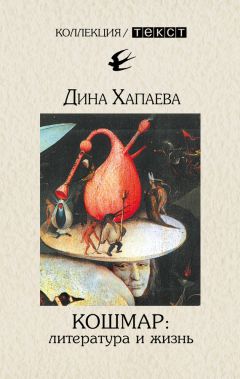144
Пелевин. Чапаев…, с. 330. В «Чапаеве» Пелевин описывает реальность так: «И, когда мое тело падало на землю, я словно бы успел осознать неуловимо короткий момент возвращения назад, в обычный мир — или, поскольку осознавать на самом деле было абсолютно нечего, успел понять, в чем это возвращение заключалось. Не знаю, как это описать. Словно бы одну декорацию сдвинули, а другую не успели сразу установить на ее место, и целую секунду я глядел в просвет между ними. И этой секунды хватило, чтобы увидеть обман, стоявший за тем, что я всегда принимал за реальность, увидеть простое и глупое устройство вселенной, от знакомства с которым не оставалось ничего, кроме растерянности, досады и некоторого стыда за себя» (Там же, с. 322). Вскоре в «Священной книге оборотня» его определение «реальности» станет еще более радикальным (В. Пелевин. Священная книга оборотня. М. Эксмо, с. 263).
Пелевин. Чапаев…, с. 444.
Достоевский. Братья Карамазовы, с. 69–70.
Пелевин. Чапаев…, с. 140. «Видимо, слова насчет укола были правдой. С моим восприятием действительно творилось что-то странное. Несколько секунд Володин существовал в нем сам по себе, без всякого фона, словно фотография в виде на жительство. Уже рассмотрев его лицо и фигуру во всех подробностях, я вдруг задумался над тем, где все это происходит. И только после того, как я подумал о месте, где мы находимся, это место возникло — такое, во всяком случае, у меня осталось чувство». (Там же, с. 132).
Там же, с. 123.
Там же, с. 285.
Там же, с. 422.
Другие дежавю в «Чапаеве» см. с. 44, 45, 469, 474.
«Тверской бульвар был почти таким же, как и тогда, когда я последний раз его видел — опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели неподвижные старухи, стерегущие пестро одетых детей, занятых затяжной сугробной войной; вверху, над черной сеткой проводов, висело близкое-близкое к земле небо» (Там же, с. 463). «Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел — опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрас. (…) Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно. (…) Страстной бульвар был еле виден за снежной мглой» (Там же, с. 11).
«Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, над которой торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе» (Там же, с. 31).
Там же, с. 25.
Там же, с. 95.
Там же, с. 98.
Там же, с. 249.
«…Огни, мимо которых мы шли, уносились с чудовищной быстротой. Казалось, что мы с ним неспешно идем по какой-то платформе, которую с невероятной скоростью тянет за собой невидимый поезд, а направление движения этого поезда определяется тем, в какую сторону поворачивает барон. Впереди нас возникла точка одного из костров, понеслась на нас и замерла у наших ног, когда барон остановился» (Там же, с. 312).
Джером К. Джером. Наброски для романа 1891 г. М., 1968, с. 450.
П.А. Флоренский. Иконостас: Богословские труды. М., 1972, вып. 9.
Пелевин. Чапаев…, с. 130–134.
Там же, с. 169.
Там же, с. 20.
Там же, с. 119.
Подробнее о влиянии постсоветского беспамятства на формирование российского готического общества см. в: Хапаева. Готическое общество…, с. 126–135.
Пелевин. Чапаев…, с. 373.
Там же, с. 128.
«Но тут было другое, тут была какая-то темная достоевщина — пустая квартира, труп, накрытый английским пальто, и дверь во враждебный мир, к которой уже шли, может быть, досужие люди… Усилием воли я прогнал эти мысли — вся достоевщина, разумеется, была не в этом трупе и не в этой двери с пулевой пробоиной, а во мне самом, в моем сознании, пораженном метастазами чужого покаяния». (Там же, с. 23). «О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг!» (Там же, с. 41).
Там же, с. 15.
Там же, с. 213. См. также: 115, 116, 144, 404.
Г.Ф. Лавкрафт. Хребты безумия. Гипнос. М., 2007, с. 290.
«Эти высочайшие на земле вершины являлись, как мы поняли, средоточием чудовищного Зла, вместилищем отвратительных пороков и мерзостей…» (Лавкрафт. Хребты…, с. 202).
Не случайно Уэльбек сравнивает его описания кошмара с архитектурой: «…цвет у него на самом деле не цвет; это скорее атмосфера, точнее, подсветка, не имеющая другой функции, кроме как выигрышно подать архитектурные построения, им описываемые» (М. Уэльбек. «Г.Ф. Лавкрафт. Против человечества, против прогресса». Пер. И. Вайсбура. Екатерининбург, 2006, с. 63).
Там же, с. 62.
«Во время бегства все в нас было подчинено одной цели — спастись. Мы не замечали ничего вокруг, и уж конечно, ничего не анализировали, но в мозг, тем не менее, помимо нашей воли, поступали сигналы, которые посылало наше обоняние. Все это мы осознали позже. Удивительно, но запах не менялся! В воздухе висело все то же зловоние, которое поднималось ранее над измазанными слизью, обезглавленными трупами. А ведь запаху следовало бы измениться! Этого требовала простая логика. Теперь должен преобладать прежний едкий запах, неизменно сопровождающий звездоголовых. Но все наоборот: ноздри захлестывала та самая вонь, она нарастала с каждой секундой, становясь все ядовитее» (Лавкрафт. Хребты…, с. 194).
Г.Ф. Лавкрафт. Наследство Пибоди, Лавкрафт, ук. соч., с. 239–240. Он говорит, что уши «напрямую связанны с органами чувств, как бы пребывающими в спячке». (Там же, с. 286). Музыка звучит, как в готическом романе (Г. Ф. Лавкрафт. Из потустороннего мира, Лавкрафт, ук. соч., с. 287, 305).
Лавкрафт. Из потустороннего мира, с. 287.
Уэльбек, ук. соч, с. 64.
Там же, с. 49, 70.
«Это своего рода схема, фоторобот, и больше мы, как правило, ничего о них не узнаем» (Уэльбек, ук. соч., с. 69).
Лавкрафт. Хребты…, с. 190.
Г.Ф. Лавкрафт. Гипнос. Лавкрафт, ук. соч., с. 299.
Там же, с. 302.
«…его впечатлительная натура не смогла вынести жутких воспоминаний, смутных, мучительных видений и вновь пережить тот ужас, который он испытал, увидев нечто такое, о чем он не решился поведать даже мне» (Там же, с. 121).
«Эти видения были достаточно четкими, но другие казались вырванными из бездонной сумеречной пропасти, полной непривычных цветовых сочетаний и звуковых диссонансов. Земное тяготение, видимо, отсутствовало в этих никому не ведомых мирах, а я обретал там несвойственное мне наяву измерение. Так, я внимал леденящим кровь песнопениям Черного Человека, предсмертным крикам погибающего ребенка, нестройным звукам свирели, извращенным молитвам странной паствы, животным воплям участников оргии. Все это отчетливо звучало в моих ушах, хотя сами картины я мог и не видеть» (Лавкрафт. Наследство Пибоди, с. 241).
Г.Ф. Лавкрафт. Зов Ктулху.
Лавкрафт. Из потустороннего мира, с. 282.
Уэльбек говорит об «опорных точках неназываемого», о «несказуемом» (Уэльбек, ук. соч. с. 89), но не вдается в тему связи кошмара и слова глубже.
Лавкрафт. Гипнос…, с. 301.
Лавкрафт. Хребты…, с. 193–194.