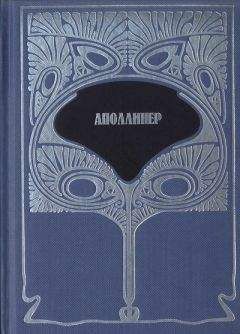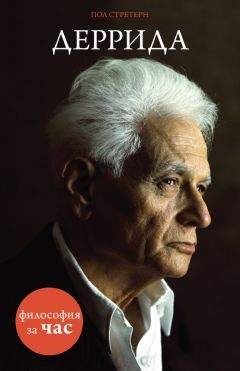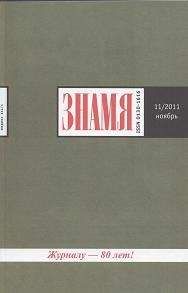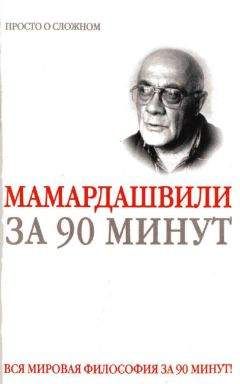Совершенно закономерно, что Бретон приходит к концепции «эйдетического образа» (Эйзенштейн сказал бы просто «образа»), в равной мере свойственного и первобытным народам, и детям (Бретон, 1970:188). Эйдетический образ как всеобщий эквивалент является достоянием слепца.
В сороковые годы Эйзенштейн выполняет целую серию рисунков на тему о слепоте. Большая их часть приходится на 1944 год («Слепой», «Слепые», «В царстве слепых», «Навеки без зрения!»). В этой серии выделяются изображения слепых античных мудрецов. Это «Велизарий» (1941) и «Тиресий» (1944). Оба рисунка строятся по общей иконографической схеме: слепой старец с посохом и мальчик-поводырь. Относительно Велизария такая схема оправдывается всей европейской традицией изображения ослепленного византийского полководца. Мальчик-поводырь входит в изобразительную легенду о Велизарий у Ван Дейка, Сальватора Розы, Жерара, Давида, где изображается слепец (иногда с умирающим от укуса змеи поводырем на руках). Тиресий не имеет такой развитой иконогра-
392
фической традиции. Он появляется с поводырем, пожалуй, лишь в «Антигоне» Софокла, где рассказывает о зловещем гадании на огне, которого из-за своей слепоты он не мог увидеть. Софокл так мотивирует этот рассказ:
Так рассказал мне мальчик мой; ведь он — Вожатый мне, как я для вас вожатый
(Софокл, 1970:217).
Потому «Тиресия» Эйзенштейна можно считать иллюстрацией к «Антигоне». Но для такого вывода есть и еще одно основание. В январе 1899 года Станиславский поставил «Антигону». Роль Тиресия в этом спектакле исполнял учитель Эйзенштейна Всеволод Мейерхольд. Сохранившаяся фотография спектакля показывает, что рисунок Эйзенштейна восходит именно к этой постановке (возможно, данная фотография и послужила иконографическим источкиком). Поводырь на рисунке одет и причесан в точности, как мальчик в спектакле Станиславского (см.: Рудницкий, 1989:67). Л. Козлов показал, что Эйзенштейн неоднократно обращался к фигуре Мейерхольда, вводя ее в подтекст различных замыслов, прежде всего «Ивана Грозного» (Козлов, 1970). Можно предположить, что и в данном случае Тиресий — это также «эрзац» учителя: гения, мудреца, провидца. Но это и осуществляемая Эйзенштейном проекция Мейерхольда на себя. Ослепившая Тиресия Афина «так изощрила его слух, что ему стал понятен язык птиц. Богиня дала ему также кизиловый посох: неся его в руках, он шествовал с такой же уверенностью, что и зрячие» (Аполлодор, 1972:57). Слух и осязание заменяют Тиресию зрение, и даже не столько заменяют или компенсируют, сколько открывают ему те тайны, которые недоступны для зрячих. Тиресий предстает как мифический учитель Эйзенштейна, а он сам — как проводник в тот закрытый для зрячих мир, что лежит по ту сто-
393
рону видимого, в области осязаемого, представимого, умозрительного, где и располагается «основной» текст всеобщих связей и эквивалентов, где лежит искомый Эйзенштейном сакральный текст мироздания, главный интертекст всех его работ.
Серии рисунков о слепых предшествует еще одна загадочная графическая серия. Здесь схематические человечки заглядывают в «Ничто». Эти рисунки, вероятно, связаны с определенным политическим контекстом, так как сделаны в 1937 году, но в них есть и некое метафизическое содержание. Судя по всему, человечки этой серии — слепцы. Их глаза обозначены большими кругами без зрачков: именно так обозначалась слепота в более поздних набросках. Заглядывание в ничто, в гегелевскую «первоначальность», в исток истоков здесь доверяется слепцам. В неопубликованном фрагменте 1934 года Эйзенштейн рассматривает это проникновение по ту сторону зримого в контексте рассуждений о Сведенборге3 (еще одном маге-провидце) и «ночном зрении»: «.. .представьте себе на мгновение потухший свет, как окружающая действительность сразу становится Tastwelt осязаемой» (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 233), — пишет он. Мир расслаивается на мир видимый, осязаемый, слышимый, за которыми возникает «множественность миров действительного (Handhmgswelt) мира представления (Vorstellungswelt), понятийного мира (Begriffswelt)» (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 233). В этом многомирии, достигаемом через выключение зрения, видимости, проступает мир «вещей в себе», который и постигает через магическую диалектику художник-ясновидец. И вновь в этой мистической картине миро-постижения проглядывают отголоски старого трактата Воррингера, утверждавшего: «...у первобытных людей сильнее всего, так сказать, инстинкт «вещи в себе» <...>. Только после того, как человеческий дух в течение тысячелетнего развития прошел весь путь
394
рационального познания, в нем снова просыпается чувство «вещи в себе»» (Воррингер, 1957:471).
Эйзенштейн невольно приписывает своему сознанию тысячелетнюю историю. Он постигает мир как человек, живший вечно, как Тиресий, которому была дарована почти бесконечная жизнь и знание начал.
Генезис смысла из жеста, движения, тактильности придает тексту телесный характер. Именно поэтому чтение текста становится физиогномическим, о чем Эйзенштейн неоднократно упоминает: «Мы будем неустанно приучать себя к острому ощущению физиогномики4 выражения кривых...» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 4:125). Иными словами, в каждой форме следует увидеть тело. Генрих Вёльфлин, которого Эйзенштейн относил к той же категории сыщиков-графологов, что и Клагеса (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 3:375), уже продемонстрировал нечто подобное при анализе стиля итальянской архитектуры эпохи барокко. Вёльфлин задается вопросом, каким образом архитектура выражает дух времени. Поскольку главной моделью выразительности было и остается человеческое тело, то и архитектура, по его мнению, приобретает выразительность через скрытую аналогию с человеческим телом, которое своей манерой держаться и двигаться передает дух эпохи. Отсюда систематическая редукция всех форм к человеческому телу: «Однако основное значение этой редукции стилевых форм к человеческому образу заключается в том, что он дает непосредственное выражение духовного» (Вёльфлин, 1986:86).
Эта идея весьма близка методу Шермана, который проницает в теле дух на основании физиогномической интуиции. Каждый пластический или звуковой объект может пониматься как оболочка, скрывающая метафорическое человеческое тело, в котором в свою очередь спрятано его выразительное движение (существующее в нем как потенция формы). Согласно эйзенш-
395
тейновской концепции генезиса формы, ей предшествует принцип, схема, линия (то есть след движения), которые постепенно обрастают телом. Изучая экстатический опыт, Эйзенштейн показывает, что первоначально мистик имеет дело с «внеобразностью» и «внепредметностью», с «совершенно абстрактным образом», который затем «старательно опредмечивается» в конкретную предметность» (Эйзенштейн, 1964-1971, т. 3:204). Он замечает: «Безобразное «начало» — ход закономерностей <...> — торопливо одевается в образ конкретно предметного «персонифицированного» бога» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 3:204). Речь идет о почти физическом обретении принципом плоти, наращивании тела на схему: «Формула-понятие, упышняясь, разворачиваясь на материале, превращается в образ-форму» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:285).
Эйзенштейн, как это ему свойственно, распространяет эту метафору на эволюцию органических тел, чья поверхность понимается им как статический слепок с производимого телом движения, как оболочка следа движения линии (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 236). Поскольку выявление принципа должно, по Эйзенштейну, регрессивно повторять процесс формообразования, то оно, по существу, является «декомпозицией» тела текста, снятием телесных пластов с идеи. Закономерен поэтому повышенный интерес Эйзенштейна к мотиву тела в теле, оболочки в оболочке, к тому, что он называет «принципом кенгуру» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 3:225—226). Его интересует индийский рисунок, где в силуэте слона заключены изображения девушек (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:354), или перевозка тела Наполеона в четырех вложенных друг в друга гробах (Эйзенштейн, 1964— 1971, т. 2:389), и даже в картине Сурикова «Меньшиков в Березове» он обнаруживает метафорическую структуру этих повторяющихся гробов (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:389—390).
396
Снимая оболочки, можно дойти до тела; препарируя тело, — до сути. В «Психологии композиции» режиссер подробно разворачивает метафору авторского самоанализа (которым он сам постоянно занимался) как «аутопсии» — вскрытия трупа. Показательно, что он анализирует с этой целью «Философию композиции» Э. По — литератора, с которым его многое роднит: мифология детектива-провидца, вера в физиогномическое познание и т. д. Эйзенштейн приравнивает детектива паталогоанатому: «По делает свою аналитическую „аутопсию" (вскрытие) в формах литературного анализа над им же созданным образом, а в другом случае — в порядке аналитических дедукций „детективного" порядка» (Эйзенштейн, 1988:279). Там же говорится о переходе «обследования „декомпозиции" тела, лишенного жизни <...>, в декомпозицию „в целях анализа" тела стихотворения» (Эйзенштейн, 1988:280).