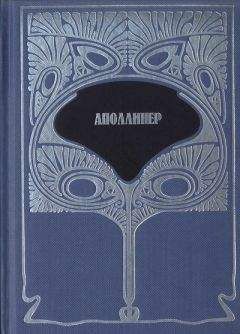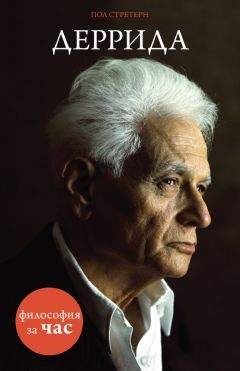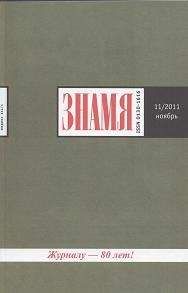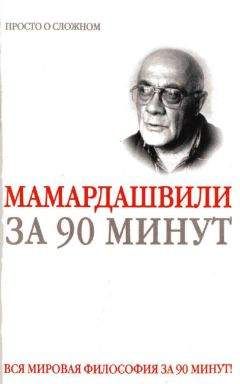401
тискивающегося сквозь поверхность лица», является метафорой его собственной концепции выразительного движения, моделью работы мимики. Отсюда делается понятным место физиогномического постижения сущности в методе Эйзенштейна. Физиогномика читает кости сквозь напластование плоти. Но отсюда уже всего один шаг и до эйзенштейновской концепции экстаза, который может быть понят как вынос скелета из тела, принципа из текста, выход тела из себя, как «череп, протискивающийся сквозь поверхность лица»6.
Мотив скелета появляется и в фильмах — «Александре Невском» и более всего в «Que viva Mexico!». В эпизоде «День мертвых» из мексиканского фильма «решающий костяк» превращается в развернутую барочную метафору. Для Эйзенштейна решающее значение имел тот факт, что под масками смерти в карнавале обнажались настоящие черепа: «И лицо как некое подобие черепа, и череп как некое самостоятельное лицо... Одно, живущее поверх другого. Одно, скрывающееся под другим. И одно, живущее самостоятельной жизнью сквозь другое. И одно другое по очереди просвечивающее. Одно и другое, повторяющие физическую схему процесса через игру образов лица и черепа, меняющихся масками» (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 1082).
Смысл в непрестанной физиогномической игре просвечивает сквозь плоть (маску), чтобы снова обернуться маской. Сменяемость лица и маски — это метафора игры субститутов, эрзацев, всеобщих смысловых эквивалентов.
Вернемся к началу этой главы, а именно, к романтической гипотезе Тынянова, включаемой Эйзенштейном в сложный комплекс давно вынашиваемых идей. Он обнаруживает в ней почти неуловимую игру субститутов, которую постепенно вводит в актуальный для себя контекст, проецируя предположение Тыня-
402
нова о безыменной любви Пушкина на Эдгара По. В отношении По пушкинская ситуация репродуцируется Эйзенштейном почти рабски, но с одной поправкой. Возлюбленная По Джейн Смит Стэнард умерла еще тогда, когда поэт был мальчиком. Место живой Карамзиной занимает мертвая Стэнард, подключив к тыняновской гипотезе весь комплекс макабрических мотивов — смерти, аутопсии, скелета и т. д. Метафорически движение к универсальному субституту проходит через стадию смерти и распада тела. Тело не может заменить другое тело. Скелеты легко принимают на себя игру эрзацев. Если довести предложенную метафору до мрачного предела, то можно сказать, что Гончарова может заместить Карамзину потому, что сходны их скелеты. Таков в логическом пределе ответ Эйзенштейна на поставленный им Тынянову вопрос.
Несколько ранее, разбирая проблему «симулакрума», внешнего подобия в «Андалузском псе», мы обнаружили, что всеобщая эквивалентность вещей устанавливается за счет размягчения, трансформации внешней формы. Эйзенштейн остается в рамках телесной метафоры, но продвигает ее еще дальше. Эквивалентность возникает после того, как форма распалась и обнажилась ее схема, костяк. В 1939 году режиссер сделал рисунок «Жизнь, навсегда покидающая тело». Жизнь здесь парадоксально представлена в виде схематической линии, напоминающей скелет и выходящей за пределы инертной материальной оболочки. Если спроецировать смысл этого рисунка на проблему текста, то его можно сформулировать следующим образом: жизнь текста начинается тогда, когда он освобождается от тела, от той внешней формы, в которую он облачен.
Два текста (или текстовых фрагмента) могут войти в активное смысловое взаимодействие, если между собой соотносятся не формы (тела) текстов, а их
403
структуры. В этом смысле Эйзенштейн вполне созвучен современным теоретикам интертекстуальности, утверждающим, что «текст и интертекст являются инвариантами одной и той же структуры» (Риффатерр, 1972: 132). Только общность структуры позволяет соотнести текст и интертекст.
Действительно, лежащее в основе всей интертекстуальной деятельности соотнесение между собой двух текстов с исключительной остротой ставит вопрос о критериях подобного соотнесения. Каким образом мы устанавливаем, что данный текст является трансформацией, вариантом некоего интертекста? Критерием является сходство — но именно сама категория сходства и выдвигается Эйзенштейном в центр его критического анализа.
В мемуарном фрагменте «На костях» Эйзенштейн упоминает книгу Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 1:296), почти целиком посвященную мотиву сходства между живым и мертвым, реальным и воображаемым. Показательно, что Роденбах, анализируя механизм сходства, указывает: «Сходство всегда заключается лишь в линиях и общем облике. Как только погружаешься в детали, все приобретает различия» (Роденбах, б. г.: 128).
Замечание Роденбаха о том, что рассмотрение деталей всегда выявляет лишь различия, вводит нас в существо парадоксальности ситуации сходства. Приведем по этому поводу проницательное высказывание Вальтера Беньямина: «Когда мы говорим, что одно лицо похоже на другое, мы хотим сказать, что обнаруживаем некоторые черты второго лица в первом, при том, что последнее не перестает быть тем, чем оно является. Но возможности такого рода явлений не подчиняются никакому критерию и, таким образом, безграничны. Категория сходства имеет лишь очень ограниченное значение для бодрствующего сознания, но получает безграничное значение в мире гашиша.
404
Все здесь, и вправду, имеет лицо, каждая вещь обладает такой степенью физического присутствия, которая позволяет искать в ней, как и в лице, появления некоторых черт. <...>. Истина становится чем-то живым; и она живет лишь ритмом, в соответствии с которым высказывание накладывается на противоположное высказывание, позволяя тем самым мыслить себя» (Беньямин, 1989а:436).
Беньямин отмечает неэффективность категории сходства для нормального бодрствующего сознания и ее крайнюю эффективность для экстатического сознания, к которому стремился Эйзенштейн. Но там, где экстаз не достигнут, наложение лица на лицо «не позволяет мыслить себя» как истину.
Именно разрешение проблемы сходства тел, текстов, объектов и заставляет Эйзенштейна полагать существование некоего внутреннего, невидимого текста, текста графической памяти. По существу, для Эйзенштейна текст и интертекст могут быть соотнесены только при условии, что из них вычленяется тот самый невидимый текст, что и является оператором их соотнесения. Для Риффатерра речь идет просто о структурном инварианте. Но Эйзенштейн превращает этот структурный инвариант в «третий текст», умозрительную мистическую интерпретанту, лежащую в сфере платонических идей, в сфере, открытой слепому взгляду Тиресия.
Этот умозрительный текст непосредственно связан с языком эйзенштейновских фильмов, в частности, с его монтажом. Сложное «интеллектуальное» сопоставление объектов в эйзенштейновском монтаже, с точки зрения обычной повествовательной логики, может быть понято как аномалия, как «цитатное» нарушение линейной наррации. Каждый такой монтажный блок, призванный высечь из столкновения фрагментов понятийный смысл, требует нормализации, а потому провоцирует интертекстуальный механизм. Сам
405
Эйзенштейн многократно показывал, что соединение этих разнородных фрагментов внутри монтажных «аномалий» подчиняется некой пластической доминанте, вроде той умозрительной линии, которая объединяла музыку Прокофьева и обрыв скалы в «Александре Невском». Таким образом, эйзенштейновский монтаж нормализуется через этот загадочный и незримый «третий текст».
Монтажная стадия смыслообразования у Эйзенштейна немыслима без первой стадии — подражания «принципу», выявления схемы — интеллектуальной графемы, фиксирующей образ, протосмысл. Эта первичная стадия смыслообразования опирается на интуитивно-магическое, физиогномическое обнаружение скрытой в теле вещи, существа или текста линии — «костяка». Эти «костяки» и призваны входить во взаимное соприкосновение и отношения субституции. До интеллектуальных манипуляций монтажной стадии художник проходит «телесный» этап творчества, описываемый режиссером как «декомпозиция», рентгеноскопическая «аутопсия» видимости — плоти. Прежде чем начнется комбинаторика обобщенных образных схем, сквозь лицо мира должен «протиснуться» видимый «посвященному» костяк, должен образоваться «третий невидимый текст», разрешающий проблему внешнего сходства.
Заключение
Мы подошли к завершению нашего исследования. Неожиданно у Эйзенштейна мы обнаружили некоторые мотивы, уже известные нам из анализа творчества Гриффита. И у того, и у другого мы находим подлинную мифологию истоков, к которым стремится текст. У Гриффита это может быть музыка или первокнига Писания, у Эйзенштейна — первопонятия в деятельности «первобытных» народов. Но и в других текстах мы систематически сталкивались с темой истоков: у Сандрара—Леже — это миф о сотворении мира как сотворении языка; у Тынянова — это тщательная разработка генезиса героя из генезиса имени, восходящая к проблематике «зауми» как некоего первоязыка; у Бунюэля-Дали — это рождение форм из их некрофилической трансформации и т. д. Мы видим, что тема мифологических истоков проникает в текст вместе с процедурами интертекстуальности.