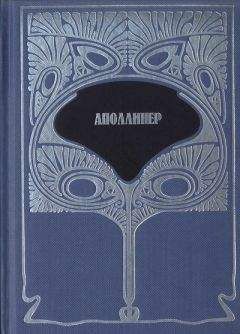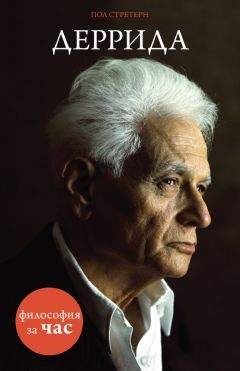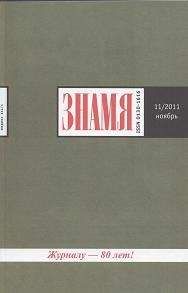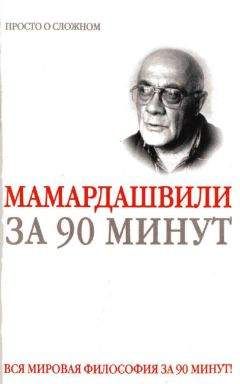Аналитическое вскрытие тела текста дополняет его физиогномическое прочтение. Идеалом становится своего рода умение прозреть сквозь тело организующую его графическую структуру. Этот метод можно определить как метод художественной рентгеноскопии, высвечивающей сквозь плоть скрытый в ней скелет.
Метафора скелета, костяка оказывается важной для эйзенштейновского метода познания принципа. Подражание принципу становится отрицанием тела во имя обнаружения скелета. Надо сказать, эта мрачная метафора возникает задолго до Эйзенштейна. Нет нужды упоминать о средневековых и возрожденческих «плясках смерти», где скелет олицетворяет истину, скрытую за обреченным на тление телом. В Новое время почти в эйзенштейновском ключе описывает скелет Шарль Бодлер, для которого это также структура, схема, извлекаемая из природного тела: «Скульптор быстро понял, какая таинственная и абстрактная
397
красота скрывается в этом тощем каркасе, которому плоть служит одеждой и который похож на план человеческого стихотворения. И эта нежная, пронзительная, почти научная грация в свою очередь вырастает — чистая, освобожденная от налипающего на нее перегноя, — среди бесчисленных граций, уже извлеченных Искусством из невежественной Природы» (Бодлер, 1962:391—392). Это представление о скелете как о прекрасной абстракции, которая должна быть извлечена из плоти, появляется и в стихах. В «Пляске смерти» Бодлер обращается к красавице: От плоти опьянев, увидят ли они, Что стройный твой скелет красив неизъяснимо? Ты, царственный костяк, душе моей сродни
(Бодлер, 1970:162).
Но эта метафора распространяется в начале века и в России, в среде тех символистов, которые были близки теософии и антропософии. Эти новейшие мистические учения были, как и теория Эйзенштейна, ориентированы на своеобразный эволюционизм. Генетически предшествующие формы сохранялись, например, согласно Р. Штейнеру, в виде неких невидимых, но обнаружимых для «посвященного» астральных тел. Теософы всерьез занимались попытками фиксировать невидимые геометрические рисунки того, что Энни Бизант называла «формами-мыслями», при этом непосредственно отсылая к опыту рентгеноскопии (Бизант—Лидбитер, 1905:3). Близкий антропософии Максимилиан Волошин пишет статью с характерным названием «Скелет живописи» (1904), в которой утверждает: «Художник весь многоцветный мир должен свести к основным комбинациям углов и кривых. ..» (Волошин, 1988:211), то есть снять с видимости плоть, обнажив в ней графический скелет. Тот же Волошин прочитывал, например, живопись К. Ф. Богаевского через палеонтологические коды, видя в ней скрытые доисторические скелеты5. Антропософ
398
Андрей Белый в «Петербурге», пронизанном мотивами разъятия тела и путешествия в астрал, дает сходное с Эйзенштейном описание движения от формулы к телу: «...предпосылки логики Николая Аполлоновича обернулись костями: силлогизмы вокруг этих костей завернулись жесткими сухожилиями; содержание же логической деятельности обросло мясом и кожей...» (Белый, 1981:239). Отметим, между прочим, что процитированный фрагмент заключает эпизод, парафразом которого может считаться эпизод «Боги» из «Октября». Речь идет о проступании сквозь метаморфозы богов — Конфуция, Будды, Хроноса — головы древнего первобытного идола (Белый, 1981:235—239). Схождение сквозь пышную плоть к скелету аналогично схождению сквозь видимость и плоть позднейших божеств к схематическому их предшественнику — ход мысли, близкий Эйзенштейну. Впрочем, вызревание абстракции из теософии — общий путь для многих художников начала века, в том числе для Кандинского и Мондриана.
Эйзенштейн, как и его предшественники, специально выделяет в живописи все, что так или иначе касается анатомической метафоры и скелета. Он посвящает большой фрагмент тем теоретическим построениям Хогарта, где тот вычленяет идеальную кривую из структуры костей (Эйзенштейн, 1964— 1971, т. 4:660—661). Он специально останавливается на педагогических разработках Пауля Клее, прочитывая их через графологическую метафору (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 4:125—126). Но именно Клее охотно развивал «анатомический» подход к структуре картины: «Так же, как и человек, картина имеет скелет, мускулы и кожу. Можно говорить об особой анатомии картины» (Клее, 1971:11). Он же рекомендовал своего рода «аутопсию» для постижения внутренней структуры вещей: «Вещь рассекается, ее внутренность обнажается разрезами. Ее характер организуется в
399
соответствии с числом и типом понадобившихся разрезов. Это видимая интериоризация, производимая либо с помощью простого ножа, либо с помощью более тонких инструментов, способных с ясностью обнажить структуру и материальное функционирование вещи» (Клее, 1971:44—45).
У самого Эйзенштейна интерес к костяку также возникает в контексте рисования. Он признавался: «Влечение к костям и скелетам у меня с детства. Влечение — род недуга» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 1:300). Ученическое рисование ему ненавистно своей установкой на телесность, потому «что в законченном рисунке здесь полагается объем, тень, полутень и рефлекс, а на графический костяк и линию ребер запретное «табу»» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 1:267). В живописи Эйзенштейн с наибольшим подозрением относится к плоти, скрывающей суть костей. Из книги Чан И «Китайский Глаз» он выписывает следующий фрагмент, касающийся работы китайских живописцев: «И вот наступает миг просветления, они смотрят на воду и те же скалы и начинают понимать, что перед ними обнаженная «реальность», не заслоненная Тенью Жизни. Они тут же должны взяться за кисть и написать «костяк» таким, каков он есть в его реальной форме: в деталях нет необходимости...» (Эйзенштейн, 1964— 1971, т. 2:350). Режиссер так комментирует этот фрагмент: «Здесь мы встречаемся с термином «костяк» (bones). И этот линейный костяк призван воплотить «истинную форму», «обобщенную сущность явления...»» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 2:351). Здесь непосредственно соединяется линейная схема как принцип и метафора костей. В другом месте Эйзенштейн, опять сравнивая схему со скелетом, уточняет: «этот „решающий костяк" может быть облачен в любые частные живописные разрешения» (Эйзенштейн, 1964-1971, т. 1:506), в каком-то смысле утверждая независимость кости от покрывающей ее плоти.
400
Поскольку для режиссера любой постулат доказывается окончательно его проецированием на эволюцию, он разворачивает эту метафору и в эволюционном аспекте. Эйзенштейн выписывает из эмерсоновского переложения учения Сведенборга («Избранники человечества») фантастический фрагмент, где вся история эволюции от змеи и гусеницы до человека рисуется как история надстройки и перестройки скелетов (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 233). А в одной из записей 1933 года он с энтузиазмом открывает фантастический эволюционный закон соответствия скелета мыслимой схеме: «Самоподражание. (Ура!!). Не о нем ли я писал как процессе выработки сознания: нервная ткань репродуцирует скелет etc. и мысль репродуцирует действие. (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 233). Нервная система как носитель мысли графически повторяет рисунок скелета как носителя действия. В человеке осуществляется внутренний зеркальный мимесис схем, структур, принципов, из которого порождается сознание.
Эйзенштейн часто пишет о просвечивании схем, линий, костяка сквозь тело текста. Этот магический рентген укоренен в особых механизмах эйзенштейновской психики. Из воспоминаний Фрэнка Хэрриса «Моя жизнь и любовь» режиссер запоминает «только одну сцену»: рассказ о человеке, который так смеялся, «что мясо от тряски „стало отделяться от костей" (!)» (Эйзенштейн, 1964—1971, т. 1:211). Кости буквально начинают прорываться сквозь мясо. В мемуарном фрагменте «О фольклоре» режиссер вспоминает, что он сравнил некоего товарища Е. с «розовым скелетом, одетым поверх пиджачной тройки» и восстанавливает психологию рождения этого «зловещего образа»: «Сперва рисуется образ черепа, вылезшего за пределы головы, или маски черепа, вылезшей за плоскость лица» (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 1082). И далее сам режиссер признает, что образ «черепа, про-
401
тискивающегося сквозь поверхность лица», является метафорой его собственной концепции выразительного движения, моделью работы мимики. Отсюда делается понятным место физиогномического постижения сущности в методе Эйзенштейна. Физиогномика читает кости сквозь напластование плоти. Но отсюда уже всего один шаг и до эйзенштейновской концепции экстаза, который может быть понят как вынос скелета из тела, принципа из текста, выход тела из себя, как «череп, протискивающийся сквозь поверхность лица»6.
Мотив скелета появляется и в фильмах — «Александре Невском» и более всего в «Que viva Mexico!». В эпизоде «День мертвых» из мексиканского фильма «решающий костяк» превращается в развернутую барочную метафору. Для Эйзенштейна решающее значение имел тот факт, что под масками смерти в карнавале обнажались настоящие черепа: «И лицо как некое подобие черепа, и череп как некое самостоятельное лицо... Одно, живущее поверх другого. Одно, скрывающееся под другим. И одно, живущее самостоятельной жизнью сквозь другое. И одно другое по очереди просвечивающее. Одно и другое, повторяющие физическую схему процесса через игру образов лица и черепа, меняющихся масками» (Эйзенштейн, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 1082).