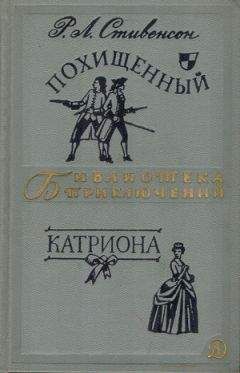«О мышах и людях». Но наибольшее воздействие на публику оказывали спектакли, сделанные на русском материале [1014].
Как и другие выдающиеся режиссеры того времени (особенно А. Эфрос и Ю. Любимов), Товстоногов не ограничивался произведениями, написанными для театра. Важную роль в репертуаре БДТ играли инсценировки прозы, и этому во многом способствовала работа Д. М. Шварц, неутомимой заведующей литературным отделом театра. Два спектакля, благодаря которым БДТ стал по-настоящему известен в стране и мире – «Идиот» (1957) и «История лошади» (1975), – были поставлены соответственно по роману Достоевского и повести Толстого. Работа с инсценировками литературных произведений открывала простор для оригинальных режиссерских решений и уберегала от немедленных обвинений в нарушении замысла того или иного драматурга-классика. Возможно, именно поэтому Шекспир и Чехов – два самых очевидных «безопасных» автора для любого советского режиссера – играли в творчестве Товстоногова столь маргинальную роль [1015].
Задачу превратить БДТ в витрину своеобычного театрального блеска, возможно, облегчало то, что он, как и другой ведущий театр послесталинской эпохи – Театр им. Ленсовета, – был именно советским (а не петербургским) учреждением. Здание театра было построено в 1879 году, но до революции в нем не было постоянной труппы. Тем не менее именно здесь по инициативе М. Ф. Андреевой, заведующей театральным отделом Петросовета, была создана «особая драматическая труппа», поначалу нацеленная на постановку «передовых» произведений классиков, в частности Ф. Шиллера, У Шекспира, К. Гольдони, Ж. Б. Мольера и П. Бомарше. К концу 1920-х здесь начали ставить и произведения советских драматургов (в 1925-1927-м наибольшей популярностью пользовалась пьеса А. Н. Толстого и А. Н. Щеголева «Заговор императрицы», которую только в апреле 1925 года посмотрели более 30 000 человек; также состоялась премьера «Блохи» Н. С. Лескова в сценическом переложении Е. И. Замятина) [1016]. Свой вклад в решение идеологических проблем современности театр вносил постановками таких пьес, как «Враги» Б. Лавренева (премьера сезона 1928–1929 года), где на примере истории двух братьев, один из которых предал советское дело, пропагандируется классовая бдительность, или драма В. Гусева «Слава» (1935), посвященная вкладу комсомола в строительство социализма. После войны главным пунктом повестки дня стали «военно-патриотические спектакли» [1017].
К началу 1950-х БДТ, по общему мнению, находился в упадке, и Товстоногов получил полную свободу действий. Первым делом после назначения его главным режиссером он объявил славившейся несговорчивостью труппе: «Я несъедобен» – и уволил сразу 30 человек [1018]. Оставшиеся должны были подчиниться новому режиму, одновременно чарующему и безжалостному. Организация работы носила строго иерархический характер не только потому, что сам Товстоногов занимал позицию просвещенного деспота (хотя всегда приветствовал инициативу актеров на репетициях), но и потому, что главные актеры зарабатывали значительно больше и имели больший авторитет. Они входили в художественный совет театра, имели право голоса на прослушиваниях и читках [1019]. При этом молодые актеры, если им удавалось себя проявить (прослушивания в театр были довольно жесткими), могли быстро оказаться в фаворе. Вопреки практике, существовавшей в том же МХАТе, где спектакли могли играть одним составом по десять лет и более, Товстоногов любил держать актеров в неведении о том, кто какую роль будет исполнять: так, для спектакля «Идиот» он репетировал роль Мышкина с одним актером, а затем неожиданно (для всех, но не для себя) выбрал на главную роль другого – И. Смоктуновского, которого впоследствии именно эта роль и прославила [Старосельская 2004: 154] [1020].
Писания Товстоногова о драме, пересыпанные упоминаниями столь важного для режиссера «гражданского долга» и прочими эффектными абстракциями, мало помогают понять, почему люди бились за возможность попасть в БДТ, приезжая в театр со всего Советского Союза [1021]. Присутствует у Товстоногова и обязательное ритуальное преклонение перед Станиславским, который со времен разгрома «формализма» в театре в конце 1930-х считался отцом-основателем советского театра. В то же время выражение преданности Станиславскому, учитывая нюансы, звучало у Товстоногова новаторски. Он подчеркивал, что великий режиссер был живой театральной силой, а не классиком из далекого прошлого: в его наследии можно было черпать не только мудрость, но и «искусный юмор» [1022].
Отсутствие конкретных деталей в рассуждениях Товстоногова о своем канонизированном предшественнике указывает на то, что он, по сути, говорил не о Станиславском, а о «Станиславском» как фирменном знаке, способном узаконить и оправдать его собственную убежденность в том, как надо ставить пьесы. Сформировавшее Товстоногова историческое наследие, собственно, включало в себя деятелей не таких уж и близких по духу советскому академическому театру. «Оптимистическая трагедия», например, в свое время легла в основу знаменитого «формалистского» спектакля А. Таирова (1933), в результате чего пьеса прочно ассоциировалась с альтернативными советскими театральными традициями [1023]. При этом отношение Товстоногова к «формалистическому» прошлому было далеко от пиетета. Декорации товстоноговской «Оптимистической трагедии» были мягче строгого геометризма таировского спектакля: на сцене установили копии каменных львов перед Сенатом в натуральную величину, а в качестве фона использовалась проекция шпиля Адмиралтейства [1024]. Режиссерский стиль Товстоногова не был концептуальным (как знаменитые постановки Мейерхольда 1920-х «Горе от ума» и «Ревизор») – он строился на учете особенностей восприятия и поведения.

6.5. Спектакль «Не склонившие головы» 1961 года по одноименному произведению Натана Дугласа (Недрик Янг) и Гарольда Смита. Из книги Г. А. Товстоногова «Зеркало сцены»
Однако творчество Товстоногова сильно отличалось и от канонических традиций системы Станиславского, образцом которой служила игра актеров во МХАТе. Как отмечал сам режиссер, он «никогда не мог понять разделение театра на “психологический” и “условный”» [Старосельская 2004: 298]. Ставя как классические, так и новые пьесы, он уделял гораздо больше внимания физическим характеристикам актеров, чем это обычно делалось в советском театре. На фотографиях из спектакля «О мышах и людях» игравшая главную роль актриса растягивалась на коленях партнера так, что ее голова касалась пола; тесные тактильные отношения выстраивались и между персонажами-мужчинами [1025].
На репетициях Товстоногов требовал от актеров не «обдумывать» свою роль, но максимально концентрироваться на жесте: из движения возникало понимание психологии героя как для актеров, так и для зрителей. И. Смоктуновский, сыгравший Мышкина, вспоминал, что нашел «ключ» к роли, когда заметил человека, который показался ему «не от мира сего»; только позже он узнал, что тот человек страдал эпилепсией. Записи Смоктуновского, сделанные на репетициях, объединяют эмоциональные и физические комментарии. О реакции Мышкина на встречу с Настасьей Филипповной Смоктуновский записывает: «Поражен встречей. Обалдел. Остолбенел, увидев ее. Столбняк» [Егошина 2004: 33] [1026]. Таким образом, предполагалось, что понимание психологии и жестикуляция, движение идут рука об руку.
Наряду с визуальными эффектами, важнейшую