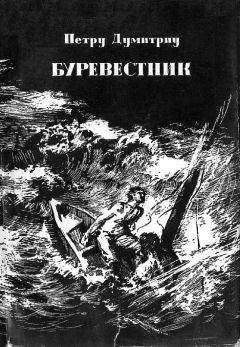Ознакомительная версия.
– Это кто?
– Всехсвятский барин, И называет одну из трех фамилий. А то встретится, бывало, в тележке, парой, целая семья таких помещиков. Сам глава семьи сидит на облучке и правит, а в тележке жена, дети и с ними, в качестве няньки, какая-то баба» (99; З46).
За стол таких беднейших дворян сажали только при обедах «посемейному», с приездом же «приличных» гостей они стушевывались: «С нашим и вообще с чьим бы то ни было приездом, они исчезали куда-то, а соседи, у которых они были, рассказывали потом, какие они несчастные, жалкие и какие вместе с тем необразованные и вообще невоспитанные.
– Вообразите, – рассказывали те, у которых они были, которые их принимали или допускали до себя, – вообразите, невозможно за стол с собою посадить: сморкаются в салфетки, едят руками… А между тем ведь, все-таки, и неловко как-то не принять, не посадить с собою: все-таки ведь дворяне…» (99; 345–346).
Действительно, не принять мелкопоместных соседей было нельзя, хотя бы уже вследствие той скуки, какая царила в усадьбах: все-таки, перебираясь из одной усадьбы в другую, мелкопоместные были главными разносчиками новостей. Но принимали их все же условно: «Мелкопоместный входил в кабинет, садился на кончик стула, с которого вскакивал, когда являлся гость позначительнее его. Если же он этого не делал, хозяин совершенно просто замечал ему: «Что же ты, братец, точно гость расселся!..»
Когда бедные дворянчики в именины и торжественные дни приходили поздравлять своих более счастливых соседей, те в большинстве случаев их не сажали за общий стол, а приказывали дать им поесть в какой-нибудь боковушке или детской; посадить же обедать такого дворянина в людской никто не решался, да и сам он не позволил бы унизить себя до такой степени…
Богатые дворяне если и сажали иногда за общий стол мелкопоместных, то в большинстве случаев лишь тех из них, которые могли и умели играть роль шутов. Мало того, тот, кто хорошо выполнял эту роль, мог рассчитывать при «объезде» получить от помещика лишний четверик ржи и овса. К такому хозяин обращался так, как вожак к ученому медведю. Когда за обедом не хватало материала для разговора (каждый хозяин мечтал, чтобы его гости долго вспоминали о том, как его именины прошли весело и шумно), он говорил мелкопоместному: «А ну-ка, Селезень (так звали мелкопоместного Селезнева), расскажи-ка нам, как ты с царем селедку ел…» (19; 219–220).
Таким «благородным» шутам подставляли стулья с обломанными ножками или совали в сиденье иголку, им во время обеда неумеренно подливали вместо вина какой-нибудь смеси опивок, или подсыпали в вино рвотное или слабительное, либо вместо водки наливали уксусу – проделки все были простые, но страшно забавлявшие невзыскательное по этой части благородное дворянство. А те покорно и даже с удовольствием исполняли свою роль: ведь за вкусный обед, какого, может быть, целый год не придется видеть, за хорошее общество, за подачки нужно было платить хотя бы унижением.
На страницах этой книги много отведено было места подвигам генерала Л. Д. Измайлова, от которого «дворяне сносили его бесцеремонное и иногда в высшей степени наглое обращение с некоторыми из мелкотравчатых их собратий, людей необразованных и ничтожных по характеру и нравственным качествам. И нипочем было им слышать и даже видеть, что из-за гнева генеральского либо просто ради одной потехи такой-то мелкотравчатый был привязан к крылу ветряной мельницы и, после непроизвольной прогулки по воздуху, снят еле живым, что другой подобный же дворянин был протащен подо льдом из проруби в прорубь, что такого-то дворянина-соседа зашивали в медвежью шкуру и, в качестве крупного зверя, чуть было совсем не затравили собаками, а такого-то, окунутого в деготь и затем вывалянного в пуху, водили по окольным деревням с барабанным боем и со всенародным объявлением о такой-то провинности перед генералом» (95; 334).
Но самое смешное заключалось не в этом. Самым смешным было то, что именно мелкопоместные более иных дворян были буквально переполнены дворянской спесью, проявлявшейся, разумеется, перед их крепостными. «Эти грубые, а часто и совершенно безграмотные люди постоянно повторяли фразы вроде следующих: «Я – столбовой дворянин!», «Это не позволяет мне мое дворянское достоинство!..» (19; 217). Да это и совершенно понятно: унижение требовало хотя бы какой-то компенсации. Мелкопоместная дворянка Бершова, о которой вспоминала Е. П. Янькова, сама со своими дворовыми девками убиравшая мак, говорила о своих крепостных: «…Что на них глядеть-то, разве это люди, что ль, – тварь, просто сволочь…» (9; 79). Вообще примечательно, что чем выше было положение дворянина, тем более вежливым с низшими он был. Многие мемуаристы, вспоминая о вельможах, подлинных вельможах XVIII в., отмечают их ровное отношение к людям любого положения, вплоть до прислуги. Подлинный аристократ даже лакею мог говорить «вы»: это его не унижало, ибо ему не нужно было доказывать, подтверждать свое положение. И напротив, чем ниже положение человека, тем презрительнее он относился к тем, кто действительно или только по его мнению стоял на более низкой ступени. Недаром самыми взыскательными и капризными клиентами в трактирах были лакеи.
Однако же справедливость требует отметить, что как среди аристократов можно было встретить подличанье перед вельможами более высокого ранга, так и среди мелкопоместных бывали люди, не допускавшие не только издевательств, но и просто фамильярности. Это отмечают как мемуаристы (например, Е. Н. Водовозова пишет: «Конечно, и между мелкопоместными попадались люди, которые, несмотря на свою бедность, никому не позволяли вышучивать себя, но такие не посещали богатых помещиков» (19; 219)), так и беллетристы. Отошлем читателя к роману Н. С. Лескова «Захудалый род», где видное место занимает этакий мелкопоместный Дон Кихот – Доримедонт Васильич Рогожин, и к двум прекрасным рассказам И. С. Тургенева из «Записок охотника» – «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова». А чтобы не опираться на художественную литературу, которая на то и художественная, чтобы ей не слишком доверять, обратимся к одной истории, случившейся с уже известным нам генералом Измайловым, не церемонившимся со своими нищими собратьями по дворянскому сословию.
«Раз бедный дворянин, отставной майор Голишев, сподвижник Суворова в итальянском походе, провинился в чем-то на измайловской пирушке и отказался за такую провинность выпить Лебедя. Измайлов захотел и с Голишевым обойтись по-своему: он велел было насильно влить ему в горло забористый напиток. Но Голишев хотя и кутила, но никогда не забывавший своего человеческого достоинства, тот час же пустил в дело свою чрезвычайную силу. Он выругал крепко Измайлова и, кинувшись стремительно к нему, схватил его за горло могучими руками.
– Слушай, Лев Дмитрич! – сказал он. – Не дам я тебе издеваться надо мною! Пикни только словечко – задушу, не то кости переломаю. А попустит бог, вывернешься и людишки твои одолеют меня, – доконаю тебя после, везде, где только встретимся, разве живой отсюда не выберусь!..
Измайлов немедленно попросил извинения. А после того он долго добивался дружбы Голишева и, добившись, чрезвычайно дорожил ею. Он уважал молодца-ветерана тем более, что Голишев никогда не хотел пользоваться никаким от него вспоможением» (95; 335).
Благо было Голишеву, сохранившему недюжинные силы, меланхолически заметим мы. А ну как был бы он стар и бессилен?
Между прочим, этот Измайлов и был прототипом пушкинского Троекурова из повести А. С. Пушкина «Дубровский». Не был ли прототипом старика Дубровского майор Голишев?
Однако же измайловы были редки, а большей частью и «крепостники» были людьми не без сочувствия и доброты, хотя бы к своему брату. И про них хватало таких, кому требовалось это сочувствие. «И когда он считает барыши за несжатый еще хлеб, он не отделяет несколько сот рублей послать в какое-нибудь заведение, поддержать соседа? – писал о зажиточном помещике И. А. Гончаров. – Нет, не отделяет в уме ни копейки, а отделит разве столько-то четвертей ржи, овса, гречихи, да того-сего, да со скотного двора телят, поросят, гусей, да меду с ульев, да гороху, моркови, грибов, да всего, чтоб к Рождеству послать столько-то четвертей родне, «седьмой воде на киселе», за сто верст, куда он посылает десять лет оброк, столько-то в год какому-то бедному чиновнику, который женился на сиротке, оставшейся после погорелого соседа, взятой еще отцом в дом и там воспитанной. Этому чиновнику посылают еще сто рублей деньгами к Пасхе, столько-то раздать у себя в деревне старым слугам, живущим на пенсии, а их много, да мужичкам, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болести, так что спины не разогнет, у другого темная вода закрыла глаза. А как удивится гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостиной и не увидев никого, кроме хозяина и хозяйки, вдруг видит за обедом целую ватагу каких-то старичков и старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают «привычные места»! Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И боже сохрани попрекнуть их «куском»! Они почтительны и к хозяевам и к гостям. Барин хватился своей табакерки в кармане, ищет глазами вокруг: один старичок побежал за ней, отыскал и принес. У барыни шаль спустилась с плеча: одна из старушек надела ее опять на плечо, да тут же кстати поправила бантик на чепце. Спросишь, кто это такие? Про старушку скажут, что это одна «вдова», пожалуй назовут Настасьей Тихоновной, фамилию она почти забыла, а другие и подавно: она не нужна ей больше. Прибавят только, что она бедная дворянка, что муж у ней был игрок или спился с кругу и ничего не оставил. Про старичка, какого-нибудь Кузьму Петровича, скажут, что у него было душ двадцать, что холера избавила его от большей части из них, что землю он отдает внаем за двести рублей, которые посылает сыну, а сам «живет в людях» (29; 68).
Ознакомительная версия.