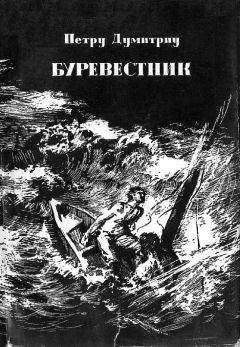Ознакомительная версия.
Естественно, когда крепостное право приказало долго жить, в первую очередь пострадали от этого псарни. Все же охота была роскошью. И даже в прежние благословенные времена далеко не все помещики могли содержать обширные псарни с множеством псарей. Теперь пришлось бы всем этим доезжачим, выжлятникам, борзятникам и стремянным платить жалование, держать лошадей на корме, который можно было бы и продать, а уж кормить десятки собак совсем накладно было. Так что самые отчаянные охотники поневоле превратились в мелкотравчатых с одной-двумя сворами, а то и вовсе обратились к ружейной охоте с легавой собакой, что уж совсем было не барским делом. Правда, Руперти в своей подмосковной Липовке уже в начале ХХ в. на английский лад завел парфорсную охоту: «Недалеко от конюшен был выстроен деревянный одноэтажный дом. В нем были помещены 30 английских пойнтеров-сучек и два кобеля. Все это было выписано из Англии. Там же жили немец Шнеер и его русский помощник. Шнеер заведовал собачьим царством и устройством осенью большой парфорсной охоты по английскому образцу. На огороде, за большим сараем, разместили клетку с лисицами» (36; 73–74). Да вся штука в том, что Руперти не был классическим русским помещиком старых времен. Это был крупный предприниматель из знаменитого немецкого клана Вогау, Руперти и Марк. Недаром дедушка мемуаристки, Мориц Филиппович Марк, чтобы было удобнее ездить в имение, устроил на Савеловской дороге платформу «Марк», которой и сегодня пользуются москвичи и жители Подмосковья. На доходы от банков и многочисленных крупных заводов отчего же не содержать парфорсную охоту. Впрочем, такая охота – это не то, что старинная лихая русская псовая охота.
Традиционной русской забавой была охота с ястребами на мелкую полевую дичь. Она сменила древнюю царскую и боярскую охоту с соколами. Подготовка ястребов требовала много времени и огромного внимания, и ею занимался в усадьбе специальный охотник из крепостных, а иногда «вынашивал» птицу и сам помещик. Птицу брали молодой, еще из гнезда, выдерживали довольно долго, сначала в затемненной клетке, моря голодом, потом на свету, постоянно тревожа, а когда ястреб смирялся и привыкал к присутствию людей, его сажали на кожаную рукавицу и носили целыми днями; затем приучали идти из клетки на руку, и, наконец, с душевным трепетом отправляли в первый полет. Так ястреб приучался «брать» перепелок, стрепетов и другую степную птицу и отдавать ее хозяину, в награду получая оторванную окровавленную птичью головку. Сама охота с ястребом велась верхом. Это была длительная и сложная процедура, и ястребами развлекались далеко не все помещики. Более популярной в деревне была охота на перепелок и коростелей. Птицу ловили сетями, развешивавшимися на кустиках, приманивали «вабилом», парой птичьих крыльев, производя ими трепещущие движения, подзывали манком и крыли все теми же тенетами, особой ловушкой – «лучком», или даже обычным лукошком. Перепелки шли в пищу, а перепелов, отличавшихся драчливым нравом, содержали живыми и устраивали перепелиные бои, наподобие петушиных (последние были скорее городской, нежели деревенской забавой).
Однако ловля перепелок, охота с ястребом и даже псовая охота были занятиями сезонными, праздники, при всей изобретательности, бывали редко, в гости же, как правило, ехать было далеко. Зато приезжали надолго. Эта скука, томление от безделья, компенсировавшиеся долгим сном и не менее долгими и обильными трапезами, радость от неожиданного приезда гостей, пожалуй, ярче всего описаны И. А. Гончаровым во вставном эпизоде его путевых записок «Фрегат «Паллада»; Гончаров сравнивает здесь жизнь русского помещика в «Обломовке» с деятельной жизнью английского джентльмена. Пожалуй, стоит привести его с сокращениями: Гончарова нынче читают мало, а «Фрегат «Паллада» и подавно.
«Вижу где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый час свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон – и все напрасно. Хозяин мирно почивает; он не проснулся, когда посланная от барыни Парашка будить к чаю, после троекратного тщетного зова, потолкала спящего, хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга, в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями, трижды входил и выходил, сотрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего, – и все почивал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не стало бы уже человеческой мочи спать, когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном – и барин проснулся, обливаясь потом…
Напившись чаю, приступают к завтраку: подадут битого мяса с сметаной, сковородку грибов или каши, разогреют вчерашнее жаркое, детям изготовят манный суп… Наступает время деятельности. Барину по городам ездить не нужно: он ездит в город только на ярмарку раз в год да на выборы: и то и другое еще далеко. Он берет календарь, справляется, какого святого в тот день: нет ли именинников, не надо ли послать поздравить. От соседа за прошлый месяц пришлют все газеты разом, и целый дом запасается новостями надолго. Пора по работам; пришел приказчик – в третий раз.
– Что скажешь, Прохор? – говорит барин небрежно. Но Прохор ничего не говорит; он еще небрежнее достает со стены машинку, то есть счеты, и подает барину, а сам, выставивши одну ногу вперед, а руки заложив назад, становится поодаль. – Сколько чего? – спрашивает барин, готовясь класть на счетах.
– Овса в город отпущено на прошлой неделе семьдесят… – хочется сказать – пять четвертей. «Семьдесят девять», – договаривает барин и кладет на счетах. – Семьдесят девять, – мрачно повторяет приказчик и думает: «Экая память-то мужицкая, а еще барин! Сосед-то барин, слышь, ничего не помнит…»
– А наведывались купцы о хлебе? – вдруг спросил барин, подняв очки на лоб и взглянув на приказчика.
– Был один вчера.
– Ну?
– Дешево дает.
– Однако?
– Два рубля.
– С гривной? – спросил барин.
Молчит приказчик: купец, точно, с гривной давал. Да как же барин-то узнал? Ведь он не видел купца! Решено было, что приказчик поедет в город на той неделе и там покончит дело.
– Что же ты не скажешь? – вопрошает барин.
– Он обещал побывать опять, – говорит приказчик.
– Знаю, – говорит барин. «Как знает? – думает приказчик, – ведь купец не обещал…»
– Он завтра к батюшке за медом заедет, а оттуда ко мне, и ты приди, и мещанин будет. Приказчик все мрачней и мрачней.
– Слушаю-с, – говорит он сквозь зубы.
Барин помнит даже, что в третьем году Василий Васильевич продал хлеб по три рубля, в прошлом дешевле, а Иван Иванович по три с четвертью. То в поле чужих мужиков встретит да спросит, то напишет кто-нибудь из города, а не то, так видно, во сне приснится покупщик, и цена тоже. Недаром долго спит. И щелкают они на счетах с приказчиком, иногда все утро или целый вечер, так что тоску наведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил.
– Ну, что еще? – спрашивает барин. Но в это время раздался стук на мосту. Барин поглядел в окно. – Кто-то едет? – сказал он, и приказчик взглянул.
– Иван Петрович, – говорит приказчик, – в двух колясках.
– А! – радостно восклицает барин, отодвигая счеты. – Ну, ступай: ужо вечером как-нибудь улучим минуту да сосчитаемся. А теперь пошли-ка Антипку с Мишкой на болото да в лес, десятков пять дичи к обеду наколотить: видишь, дорогие гости приехали!
Завтрак снова появляется на столе, после завтрака кофе. Иван Петрович приехал на три дня, с женой, с детьми, и с гувернером, и с гувернанткой, с нянькой, с двумя кучерами и с двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей; все это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович дальний родня ему по жене: не приехать же ему за пятьдесят верст – только пообедать! После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда…
Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга… Хозяин осмотрел каждый уголок: нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что у него окажется в наличности по истечении года, сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт. Обед гомерический, ужин такой же. Потом, забыв вынуть ключи из тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей не приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые, может быть, опять затащит Мимишка под диван, а панталоны опять Егорка забудет на дровах» (29; 64–66).
Ознакомительная версия.