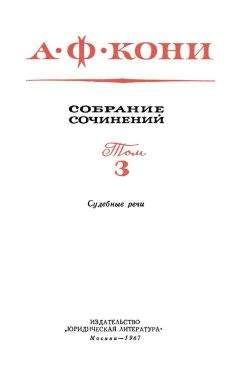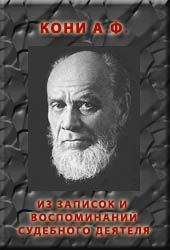В один прекрасный день ко мне в камеру пришел в сопровождении молодого человека видный сановник, очень причастный вместе с тем к литературе. Высказав мне свой взгляд на содержание игорного дома как на дело, совершенно домашнее и никого не касающееся, кроме посетителей, которые «ведь не маленькие и понимают, что делают», он просил меня заступиться за «бедного Колемина», с которым суд, наложивший арест на деньги, поступил возмутительно и по-грабительски, как не поступают с порядочными людьми. При этом он прибавил, что не обращается к министру юстиции только в уверенности, что я его пойму и сделаю так, чтобы суд отдал деньги назад. «Вы ошибаетесь, — сказал я, — или я вас не понимаю, так как не могу себе представить, чтобы человек, носящий ваше звание и притом выдающийся писатель, мог не сознавать преступности содержания игорного дома. А в суде помочь не могу: вы, очевидно, не знаете, что «возмутительный» арест на деньги наложен по моему предложению. Считать это законное распоряжение суда грабежом (не говоря уже о неуместности этого выражения) так же основательно, как и называть Колемина порядочным человеком, забывая, что слово «грабеж» скорее всего должно быть отнесено к нему». Приведенный сановником молодой человек, которого я считал за кого-либо из многочисленных родственников первого из них, в видимом смущении быстро встал со стула и густо покраснел. «Ах, помилуйте, что вы, что вы? — забормотал мой сановный посетитель, — это ему обидно. Позвольте вам представить его: это — Колемин». «Вы слишком поздно это делаете, — заметил я, — и приведя ко мне господина Колемина без предупреждения меня о том и без моего разрешения, вы повинны перед ним в том, что ему пришлось выслушать резкий о себе отзыв. Беседа наша кончена, и я вас, господа, не удерживаю». «Вы разбили карьеру молодого человека», — с пафосом сказал мне, уходя, глубоко обиженный сановник. «Игорную?» — ответил я ему вопросительно. Но он только махнул рукой, очевидно, убедившись в невозможности добиться правосудия.
Колемин был присужден окружным судом к 2 тысячам рублей штрафа, а с деньгами, арестованными у него, определено было поступить по 512 статье полицейского устава.
«Qui a bu — boira!» Колемин переселился во Францию, а затем в Испанию и там, по слухам, продолжал некоторое время свою деятельность в С.-Себастьяно.
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ПУТИЛИН [25]
Начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин был одной из тех даровитых личностей, которых умел искусно выбирать и не менее искусно держать в руках старый петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов. Прошлая деятельность Путилина, до поступления его в состав сыскной полиции, была, чего он сам не скрывал, зачастую весьма рискованной в смысле законности и строгой морали; после ухода Трепова из градоначальников * отсутствие надлежащего надзора со стороны Путилина за действиями некоторых из подчиненных вызвало большие на него нарекания. Но в то время, о котором я говорю (1871–1875 гг.), Путилин не распускал ни себя, ни своих сотрудников и работал над своим любимым делом с несомненным желанием оказывать действительную помощь трудным задачам следственной части. Этому, конечно, способствовало в значительной степени и влияние таких людей, как, например, Сергей Филиппович Христианович, занимавший должность правителя канцелярии градоначальника. Отлично образованный, неподкупно честный, прекрасный юрист и большой знаток народного быта и литературы, близкий друг И. Ф. Горбунова, Христианович был по личному опыту знаком с условиями и приемами производства следствий. Его указания не могли пройти бесследно для Путилина. В качестве опытного пристава следственных дел Христианович призывался для совещания в комиссию по составлению Судебных уставов. Этим уставам служил он как правитель канцелярии градоначальника, действуя, при пересечении двух путей — административного усмотрения и судебной независимости — как добросовестный, чуткий и опытный стрелочник, устраняя искусной рукой, с тактом и достоинством, неизбежные разногласия, могшие перейти в резкие столкновения, вредные для роста и развития нашего молодого, нового суда. На службе этим же уставам, в качестве члена Петербургской судебной палаты, окончил он свою не шумную и не блестящую, но истинно полезную жизнь. Близкое знакомство с таким человеком и косвенная от него служебная зависимость не могли не удерживать Путилина в строгих рамках служебного долга и нравственного приличия.
По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательностью которой было какое-то особое чутье, заставлявшее его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, проницательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были характерными наружными признаками Путилина. Он умел отлично рассказывать и еще лучше вызывать других на разговор и писал недурно и складно, хотя место и степень его образования были, по выражению И. Ф. Горбунова, «покрыты мраком неизвестности». К этому присоединялась крайняя находчивость в затруднительных случаях, причем про него можно было сказать «qu’il connaissait son monde», как говорят французы. По делу о жестоком убийстве для ограбления купца Бояринова и служившего у него мальчика он разыскал по самым почти неуловимым признакам заподозренного им мещанина Богрова, который, казалось, доказал свое alibi (инобытность) и с самоуверенной усмешечкой согласился поехать с Путилиным к себе домой, откуда все было им уже тщательно припрятано. Сидя на извозчике и мирно беседуя, Путилин внезапно сказал: «А ведь мальчишка-то жив!» «Неужто жив?» — не отдавая себе отчета, воскликнул Богров, утверждавший, что никакого Бояринова знать не знает, — и сознался…
В Петербурге в первой половине семидесятых годов не было ни одного большого и сложного уголовного дела, в розыск по которому Путилин не вложил бы своего труда.
Мне пришлось наглядно ознакомиться С его удивительными способностями для исследования преступлений в январе 1873 года, когда в Александро-Невской лавре было обнаружено убийство иеромонаха Иллариона. Илларион жил в двух комнатах отведенной ему кельи монастыря, вел замкнутое существование и лишь изредка принимал у себя певчих и поил их чаем. Когда дверь его кельи, откуда он не выходил два дня, была открыта, то вошедшим представилось ужасное зрелище. Илларион лежал мертвый в огромной луже запекшейся крови, натекшей из множества ран, нанесенных ему ножом. Его руки и лицо носили следы борьбы и порезов, а длинная седая борода, за которую его, очевидно, хватал убийца, нанося свои удары, была почти вся вырвана, и спутанные, обрызганные кровью клочья ее валялись на полу в обеих комнатах. На столе стоял самовар и стакан с остатками недопитого чая. Из комода была похищена сумка с золотой монетой (отец Илларион плавал за границей на судах в качестве иеромонаха). Убийца искал деньги между бельем и тщательно его пересмотрел, но, дойдя до газетной бумаги, которой обыкновенно покрывается дно ящиков в комодах, ее не приподнял, а под ней-то и лежали процентные бумаги на большую сумму. На столе у входа стоял медный подсвечник, в виде довольно глубокой чашки с невысоким помещением для свечки посредине, причем от сгоревшей свечки остались одни следы, а сама чашка была почти на уровень с краями наполнена кровью, ровно застывшею без всяких следов брызг.
Судебные власти прибыли на место как раз в то время, когда в соборе совершалась торжественная панихида по Сперанском — в столетие со дня его рождения. На ней присутствовали государь и весь официальный Петербург. Покуда в соборе пели чудные слова заупокойных молитв, в двух шагах от него, в освещенной зимним солнцем келье, происходило вскрытие трупа несчастного старика. Состояние пищи в желудке дало возможность определить, что покойный был убит два дня назад вечером. По весьма вероятным предположениям, убийство было совершено кем-нибудь из послушников, которого старик пригласил пить чай. Но кто мог быть этот послушник, выяснить было невозможно, так как оказалось, что в монастыре временно проживали, без всякой прописки, послушники других монастырей, причем они уходили совсем из лавры, в которой проживал сам митрополит, не только никому не сказавшись, но даже, по большей части, проводили ночи в городе, перелезая в одном специально приспособленном месте через ограду святой обители.
Во время составления протокола осмотра трупа приехал Путилин. Следователь сообщил ему о затруднении найти обвиняемого. Он стал тихонько ходить по комнатам, посматривая туда и сюда, а затем, задумавшись, стал у окна, слегка барабаня пальцами по стеклу: «Я пошлю, — сказал он мне затем вполголоса, — агентов (он выговаривал ахентов) по пригородным железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире, около станции». «Но как же они узнают убийцу?» — спросил я. «Он ранен в кисть правой руки», — убежденно сказал Путилин. — «Это почему?» — «Видите этот подсвечник? На нем очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал старика со свечкой в руках: его руки были заняты — в одной был нож, а другою, как видно, он хватал старика за бороду». — «Ну, хорошо. Но почему же он ранен в правую руку?» — «А вот почему. Пожалуйте сюда к комоду. Видите: убийца тщательно перерыл все белье, отыскивая между ним спрятанные деньги. Вот, например, дюжина полотенец. Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывают страницы книги, и видите — на каждом свернутом полотенце снизу — пятно крови. Это правая рука, а не левая: при перевертывании левой рукой пятна были бы сверху…»