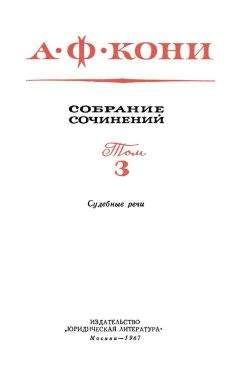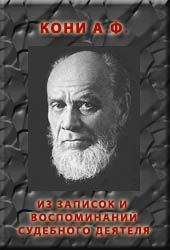Вообще надо заметить, что там, где преступление являлось результатом страстного порыва, которому предшествовали душевные терзания подсудимого, как результат ревности, перенесенной обиды, постоянного унижения и т. п., присяжные часто бывали склонны к широкому снисхождению, а иногда и к оправданию. Не следует думать, что это было с их стороны признанием, что страсть все извиняет, тогда как она лишь многое объясняет, — нет! Это являлось результатом сознания перенесенных подсудимым мук, прежде чем он совершил свое злое дело, страданий, выпавших на его долю до того, как он предстал перед судом, и соображения о том, что ему еще предстоит в случае обвинительного вердикта. Из таких соображений вытекли, по всем вероятиям, и те оправдательные решения столичных присяжных по делам об облитии серной кислотой, которые возбудили основательную тревогу в обществе, как бы знаменуя собой практическую безнаказанность одного из самых ужасных видов мщения. Полоса подобных решений прошла в начале восьмидесятых годов и во Франции, начавшись с вызвавших страстную полемику дел Марии Бьер, Тилли и др. По-видимому, эти приговоры были своего рода протестом, хотя и неуместным, но объяснимым для тех, перед кем на судебном следствии раскрылась житейская драма подсудимой, протестом против нравов, допускающих легкомысленное, грубо животное и бессердечное отношение к душе потерпевшей и к самому ее существованию. В бездушно брошенной на произвол судьбы девушке (иногда матери внебрачных детей) после того, как прошла ее молодость и ее миловидность утратила пряную заманчивость в глазах того, кто ими воспользовался «в свое удовольствие», в жене, сделавшейся без всякой вины предметом надругательства и глумления со стороны внезапно появившейся, ничем не связанной с общим супружеским прошлым, соперницы, присяжные сердцем почувствовали жертву, доведенную до отчаяния. Так оправдали они еще недавно охарактеризованную свидетелями с лучшей стороны швею, плеснувшую кислотой в шофера при знатном доме, когда на суде обнаружилось, что после девятилетнего ухаживанья он обольстил ее обещанием жениться, а когда возник вопрос о дне свадьбы, грубо оскорбил ее, заявив: «У меня таких, как ты, много, не могу я на всех жениться». Так, не решились они обвинить двух жен, брошенных с малолетними детьми мужьями, и обливших кислотой соперниц, нагло издевавшихся над обреченными на нищету… Совсем иначе поступили они в Петербурге, не дав даже «снисхождения», когда перед ними предстал лукавый искатель богатых невест, ослепивший, с медленно созревшим и тщательно обдуманным умыслом, молодую великодушную девушку в отместку за отказ выйти за него замуж.
Почти всегда, несмотря на неблагоприятную обстановку дела, присяжные являлись сознательными противниками тех подсудимых, бездушная, черствая, холодно рассчитанная, обдуманно корыстная деятельность которых вела к страданиям, несчастью и горю потерпевших. Но и при этом они отводили обыкновенно большое место даже и в таких преступлениях накопившейся горечи и раздражительности обвиняемого, вызванным условиями его несчастной личной жизни. Таким образом, отнесясь строго и без признания смягчающих обстоятельств к жене чиновника, воспитаннице института, доведшей падчерицу до голодной смерти от такого истощения, что в ее исхудалом теле под кожей завелись насекомые, или к вышеупомянутому купцу-истязателю, они, однако, как видно было из доходившего до Сената дела, оправдали несчастную чахоточную поденщицу, брошенную своим любовником, расправлявшуюся после тяжелого рабочего полуголодного дня слишком круто с жившими в «углу» и вызывавшими жалобы других квартирантов детьми. Присяжные, по моим воспоминаниям, особливо в провинции, редко бывали увлечены некоторыми из защитников, любивших одно время советовать им вдуматься в слова Шекспира: «Нет в мире виноватых!» Продолжение этих слов: «Одень злодея в золото — стальное копье закона сломится безвредно, одень его в лохмотья — и погибнет он от пустой соломинки пигмея» — огромному числу из них было, конечно, неизвестно, но житейский смысл и голос сострадания, очевидно, побуждали их войти в положение одичавшей в борьбе за кусок хлеба носительницы «лохмотьев» и твердо удержать в руке по двум другим делам «стальное копье закона».
Отсюда видно, как огульные нападки на присяжных по многим делам более поспешны, чем справедливы, особенно потому, что при этом совершенно забывается деятельность суда коронного в тех местностях, где нет присяжных заседателей, или в учреждениях, где они заменены сословными представителями. Можно указать немало случаев оправданий, состоявшихся в судебных палатах, которые вызвали бы, несомненно, резкую критику и осуждение, будь они постановлены присяжными заседателями. В кассационной практике встречались примеры таких приговоров, ничем не отличавшихся от ставимых в вину присяжным «помилований». Достаточно указать хотя бы на дело помещика Западного края, обвинявшегося в подстрекательстве и попустительстве шестнадцати своих рабочих к двухдневному при участии урядника и при угощении водкой истязанию «с чувством, с толком, с расстановкой» четырех лиц, заподозренных в краже у него тройки лошадей, причем крики их разносились далеко за пределы усадьбы. Один из истязуемых лишился навсегда работоспособности, а другой не перенес истязаний и умер. Судебная палата, выслушав красноречивые речи о вреде конокрадства в сельском быту, постановила оправдательный о всех подсудимых приговор. Уем этот приговор отличается от оправдательных решений присяжных заседателей по делам об убийстве конокрадов, за что их обвиняют в извинении самосуда? Их упрекали иногда также и в том, что они признают извинительным покушение на убийство, когда мотивом к нему послужило желание подсудимого обратить внимание общественного мнения на свое тяжелое положение или на какие-либо вопиющие поступки лиц, власть имущих. Достаточно вспомнить нарекания на присяжных по поводу дела Веры Засулич, когда один лишь ленивый не бросал в них не только камнями, но, по выражению автора «Былого и дум», даже целой мостовой. Однако в 1902 году одна из судебных палат, рассматривая дело о счетоводе городского общественного банка Хахалине, обвиняемом в том, что, имея намерение лишить жизни директора банка Степашкина, он произвел в него почти в упор выстрел, причем пуля, пробив сюртук и жилет, контузила потерпевшего в левую часть живота, отвергла намерение обвиняемого убить, признав, что под давлением мысли о несправедливости начальства он решился своим выстрелом вывести эту несправедливость за стены банка на суд общественного мнения, и оправдала его, т. е. признала заслуживающим уважения тот же мотив, который приводила и Засулич в объяснение своего поступка. Наконец, мне пришлось давать заключение в Сенате по делу председателя самарской земской управы Алабина, преданного суду судебной палатой с участием сословных представителей за бездействие власти, выразившееся в том, что осенью 1891 года, в самый разгар голода, постигшего приволжские губернии, он не только ничего не предпринял для обеспечения добросовестного исполнения обязательств, принятых на себя поставщиками муки и зернового хлеба на 700 тысяч рублей, но приобрел в виде муки пятого сорта, вопреки постановлению земского собрания, совершенно негодный продукт с умышленной примесью куколя и других сорных трав, а также гнилую муку, вызвавшую тяжкую болезнь 1272 крестьян, потребителей ее, и обусловившую смерть одной крестьянки. Палата оправдала Алабина, объясняя неисполнение им своей святой в данном случае обязанности его неумелостью распорядиться имевшимися у него средствами. Не говоря уже о том, что простое утверждение о неумелости человека, находящегося на службе 48 лет, бывшего управляющим удельною конторой и палатой государственных имуществ, губернатором в Болгарии и самарским городским головой, звучало более, чем странно, надо заметить, что закон требует от всякого служащего «человеколюбия, усердия к общему добру и покровительства к скорбящим», вменяя должностному лицу в «главнейшее поношение упущение должности и нерадение по части блага общего, ему вверенного». Такого приговора, конечно, никогда не изрекли бы присяжные заседатели, противопоставив, подобно палате и сословным представителям, как нечто равносильное, неумелость опытного человека и жестокое бедствие, постигшее население целой губернии. Коронносословный суд в данном случае не мог не понять, что начало неумелости, как основание к оправданию, недопустимо потому, что, получив право гражданства, оно явилось бы разлагающим по отношению к началу долга, на котором зиждется всякое служение. Это начало было бы опасным, так как в силу его представлялась бы возможность, относясь легкомысленно, невнимательно, высокомерно или бездушно к общественному бедствию и даже усугубив его таким отношением к делу, уходить из-под карающей длани закона и драпироваться в удобную и безопасную мантию неумелости. Это начало было бы несогласным с требованиями нравственности, так как при допущении его призываемый по долгу службы на помощь против общего несчастия, решаясь взяться за дело, стал бы руководиться, вместо смирения перед важностью задачи и строгой проверки себя и своих сил, одними лишь аппетитами к власти, влиянию и разного рода наградам.