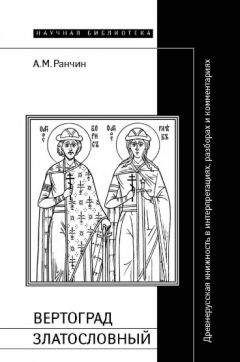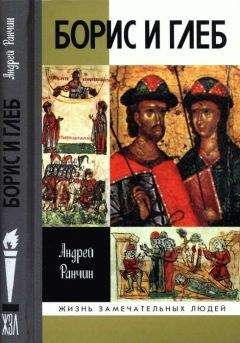Даже если какие-то черты внешности конунга не были красивы, в целом его облик исполнен красоты: „Сигурд конунг был мужем рослым, сильным и статным. <…> У него был некрасивый рот, хотя другие черты лица были у него хороши“ (Сага о сыновьях Харальда Гилли, XXI [Снорри Стурлусон 1995. С. 529]); „Эйстейн, их конунг (Эйстейн Девчушка, предводитель повстанцев-берестеников, утверждавший, что принадлежит к правившему в Норвегии роду. — А.Р.), был человек статный, с узким, но красивым лицом“ (Сага о Магнусе сыне Эрлинга, XXXVII, пер. М. И. Стеблин-Каменского [Снорри Стурлусон 1995. С. 574]).
Некрасив конунг Сигурд сын Магнуса Голоногого: „Сигурд конунг был человек доблестный, некрасивый, но рослый и живой“ (Сага о сыновьях Магнуса Голоногого, XVII [Снорри Стурлусон 1995. С. 488]). Однако это именно исключение: некрасивость Сигурда — изъян, не соответствующий достоинству конунга. И эта особенность обыгрывается в сюжете саги. Между Сигурдом и его братом Эйстейном завязывается спор о превосходстве, причем Эйстейн отмечает некрасивость брата как недостаток: „Эйстейн конунг говорит: Красота тоже преимущество в муже. Его тогда легко узнать в толпе. Красота лучшее украшение правителя“ (Сага о сыновьях Магнуса Голоногого, XXI [Снорри Стурлусон 1995. С. 491]).
Красота воинов из окружения конунгов, не принадлежащих к правившей династии, отмечается лишь в исключительных случаях, — когда они сравниваются с конунгами.
Телесная красота как свойство праведного царя встречается еще в одном из первых жизнеописаний правителей-христиан — в Жизни блаженного василевса Константина Евсевия Памфила (I; 19; II; 10).
В основе всех этих описаний, по-видимому, лежит представление о правителе как о „совершенном человеке“ (см. об этом представлении: [Одесский 2000. С. 4–7]). Ср.: Летописные примеры убедительно демонстрируют, что умерший государь — „зерцало“ добродетелей: он абсолютно, метафизически красив, силен, отважен, милостив. Аналогичен в житийном памятнике — „Сказании о Борисе и Глебе“ — „взор“ князя Бориса Владимировича“ [Одесский 2000. С. 5].
Представление о физической красоте как об одном из достоинств государя и как о знаке его добродетелей и превосходных качеств было характерно еще для античной литературы, из нее этот топос был унаследован латинской литературой средневекового Запада: Топосы (fixed shemata) для евлогиев правителей в торжественном красноречии (epideixis) были выработаны в эллинистический период. Физические и моральные достоиства (excellences) были выстроены в устойчивый ряд — например, красота, благородное происхождение, мужество (forma, genus, virtus). Более разработанный топос объединял четыре „естественные достоинства“ (благородное происхождение, силу, красоту, богатство) с четырьмя добродетелями. Физическая красота всегда востребована, и Средние века тоже уделяли ей внимание <…>. Соответственно, очень часто встречаются средневековые исторические источники, повествующие о красоте правителя. В поздней античности это и другие достоинства часто трактовались как дары Природы. Одна из ее функций — создание прекрасных мест и прекрасных человеческих существ. В случае с выдающимся человеком она работает с особенной тщательностью. Пособие по риторике третьего века Империи советует включать Природа-топос (the Nature-topos) в панегирики» [Curtius 1990. P. 180].
См.: [Жития 1916. С. 52].
Добавлю, что в Сказании о чудесах в противоположность Сказанию об убиении мирским именам братьев последовательно предпочитаются христианские — Роман и Давид.
Впрочем, А. А. Шахматов предполагал существование литературно необработанных кратких записей о погребении и посмертных чудесах Бориса и Глеба [Шахматов 1908. С. 476]; ср.: [Шахматов 2001. С. 340].
[Бугославський 1928. С. IX–XV]; см. и реконструированный текст Сказания об убиении на с. 138–154. Замечу, что на эту работу С. А. Бугославского А. Н. Ужанков не ссылается.
Этого же мнения придерживались П. Левитский [Левитский 1890. С. 399–404] и Д. И. Абрамович [Абрамович 1916. С. VIII, XII].
В ответе на журнальный вариант статьи А. Н. Ужанков указал, что принимает доводы А. А. Шахматова и Н. Н. Воронина, считавших оба сказания изначально единым текстом [Ужанков 2002. С. 117–118]. Такая позиция видится мне уязвимой: точка зрения С. А. Бугославского аргументирована достаточно сильно. Кроме того, интересно, что А. Н. Ужанков, настаивая на изначальном единстве Сказания об убиении и рассказа о перенесении мощей 1072 г. в Сказании о чудесах, признает позднейший характер завершающей части последнего Сказания (в этом отношении он солидарен с С. А. Бугославским, занимая эклектичную позицию).
Что же касается утверждения об обязательности посмертных чудес в житиях как условии прославлении святого [Ужанков 2002. С. 118], то для Бориса и Глеба, причисленных к лику святых как мученики, это не было обязательным. По крайней мере, в мученической агиографии число житий, лишенных посмертных чудес и, в частности, рассказов об открытии нетленных мощей, весьма велико.
Напомню, что с мнением С. А. Бугославского солидаризировался А. Поппэ [Рорре 1969. Р. 267–292, 359–392]. Позднее он настаивал на единстве Сказания об убиении и Сказания о чудесах, однако признавал двухслойный характер повествования о посмертных чудесах Бориса и Глеба [Поппэ 2003. С. 330–331].
Г. Ленхофф полагает, что изначально оба Сказания были самостоятельными произведениями [Lenhoff 1989. Р. 80].
Автор недавнего исследования Борисоглебских памятников также придерживается мнения об изначально независимом существовании Сказания об убиении и Сказания о чудесах. (См.: [Святые князья-мученики 2006. С. 178, 188–189]).
См. описание рукописей в кн.: [Revelli 1993. Р. 1–82]. При подсчете рукописей, содержащих единый текст Сказания об убиении и Сказания о чудесах, мною не учитывались дефектные списки с неполным текстом первого из них (поскольку в их протографах текст Сказания о чудесах мог следовать за текстом Сказания об убиении), но принимались во внимание случаи, когда за Сказанием об убиении идет неполный текст Сказания о чудесах.
А. И. Соболевский попытался доказать, что оба Сказания изначально составляли единый текст; однако указанные им черты сходства (цитация Священного Писания, нарративные «скрепы» между фрагментами текстов) совершенно недостаточны для такого вывода [Соболевский 1892. С. 803–804].
А. Поппэ также рассматривает этот фрагмент как принадлежащий тексту Сказания об убиении («Сказания страсти…»); но он полагает, что описание перенесения мощей 1072 г. было присоединено к тексту Сказания об убиении, возможно написанного немного ранее [Поппэ 1995. С. 22–23]; [Поппэ 2003. С. 304–307, 330–331].
[Бугославский 1914].
Кстати, А. Н. Ужанков не учитывает соображений о «многослойном» характере основной части Сказания и Чтения — повествований об убиении Бориса и Глеба. О существовании несохранившегося жития Бориса и Глеба — источника Сказания об убиении и Чтения — писал А. А. Шахматов [Шахматов 1916. С. LXVII–LXXVII], существование такого произведения предполагал Д. В. Айналов [Айналов 1910]. Влияние не дошедшего до нас произведения на Сказание о чудесах Бориса и Глеба доказывает и Л. Мюллер [Мюллер 2000. С. 83]. Я пришел к выводу о существовании двух не дошедших до нас житий Бориса и Глеба, отразившихся в Чтении и Сказании об убиении [Ранчин 1999а. С. 5–15]; первоначально: Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1987. № 1; переиздано с дополнениями в настоящей книге. В. Биленкин полагает, что при Ярославе Мудром было создано позднее утраченное житие святого Глеба [Биленкин 1993. С. 63–64]. Если принять во внимание эти соображения, история текста Чтения и Сказания окажется несоизмеримо более сложной, а любые выводы об их атрибуции и датировке — обреченными на проблематичность.
В последнее время в качестве кандидата в авторы Сказания об убиении Бориса и Глеба (точнее, его первоначальной редакции) был предложен Иаков мних. (См.: [Святые князья-мученики 2006. С. 172–177]). Эта атрибуция предлагалась еще в XIX в. на основании упоминания в Памяти и похвале князю Владимиру Иакова мниха о некоем сочинении о святых братьях, им написанном. (См.: [БЛДР-I. С. 316]). Но справедливо устоялось мнение об абсолютной непохожести стиля Памяти и похвалы и стиля Сказания. Конечно, всякие суждения об индивидуальных чертах стиля древнерусских книжников очень уязвимы, но в этом случае различия разительны.