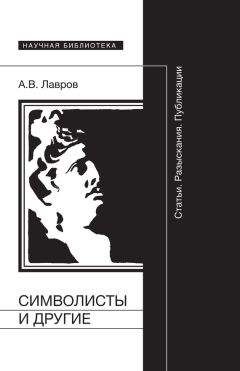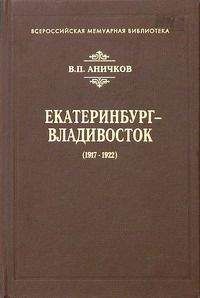А внешняя реальность такова: очень много работы. С утра до обеда сижу в Пушкинском доме – готовлю для Щеголева книгу «Лермонтов в жизни»[1561] – это дает мне очень многое: научный метод, знание матерьяла, а летом отдых (гонорар). Это единственная работа, которая меня захватывает – вся прочая не так. Школьной работы получить не удалось, и я по ней очень скучаю, а работа по театру (лекции по поэтике театральных форм в клубно-сценической мастерской Дома Культуры) в том виде, как сейчас, меня не удовлетворяет. Работой руководит Сладкопевцев[1562] – его метод мне чужд и кажется глубоко неверным. Работы вообще очень много – все срочная, напряженная и трудная; а как никогда, хочется писать – не столько стихи, сколько прозу: многое накопилось, душа разбухла и чем дальше, тем труднее делать то, что может сделать всякий на моем месте, и откладывать исполнение своего труда, самого основного для меня и существенного, продиктованного мне голосом сердца и жизни. Частично потому, возлагаю большие надежды на это лето – хочу попытаться на юге устроиться вообще, на зимовку и даже больше – чтобы жить в тишине, у моря – больше думать и больше писать. Город мне сейчас очень не пó сердцу, и если не только я, но мы (вдвоем с женой) сможем достать самое необходимое для жизни на юге, в провинции – я на несколько лет уеду разговаривать с природой, потому что хочется ее правды.
Эта зима внешне была очень трудной – была безработица, нужда, потом большая и напряженная работа, переутомление – но это все не важно – я многое понял и многому еще научился – а самое главное, мне надо было приехать сюда, чтобы понять, что жить мне лучше всего не в городе, а если в городе, то только в этом и нигде больше, но сейчас мне здесь делать нечего: выбиваться в литературу я не хочу – она сейчас не стоит того – надо работать не на сегодня, а на завтра, не на день, а на гораздо бóльшие сроки – это можно только вдали и в тиши, потому что такое, действительно нужное и человеческое, всегда нужно потом и никогда не нужно сейчас. Таков закон, и в нем есть своя глубокая мудрость. Я очень многое бы дал за то, чтобы с Вами поговорить. Может быть, после нашего разговора не только мне, но и Вам, было бы очень хорошо, потому что я Вас очень люблю, потому что солнце внутри нас, оно неистощимо и незакатно, и смерть есть только рождение.
Виктор.
Стихов я не посылаю, потому что они еще только будут написаны – те, которые я хотел бы Вам послать, а те, которые есть, или не стоят того, или не портативны. Кроме того я не знаю, можно ли вообще посылать за границу рукописи, а мне важно, чтобы письмо дошло: это важнее стихов.
До середины июня я предполагаю быть еще здесь. Я очень скучаю по Светику – СВТ.[1563]
А что с Димой и Лидой? Привет им братский!
Владимир Щировский – корреспондент Максимилиана Волошина
По возрасту Владимир Евгеньевич Щировский (1909–1941) принадлежал к поколению поэтов, начинавших свою творческую деятельность на рубеже 1920 – 1930-х гг., в условиях окончательного установления и укрепления нового общественного строя. Однако ничего общего, кроме возраста, у него с подавляющим большинством представителей этого поколения не было; живя в советской стране, он ни в малой мере не мог называться советским поэтом. Другие с большей или меньшей убежденностью себя «мерили пятилеткой», у Щировского же вся окружающая его социальная действительность вызывала лишь всеобъемлющее чувство отвращения и презрения: «ледяное презрение к власти Советов», по позднейшей формулировке Т. Кибирова. Совершенно недвусмысленно его отношение к большевистской революции («Вот, проползая по земной коре, // Букашки дошлые опять запели // Интернационал»), к пореволюционному политическому режиму («Неистовая свистопляска // Холодных инфернальных лет») и насаждаемой им идеологии («убогая теодицея: // Безбожье, ленинизм, марксизм»).[1564] Не приходится удивляться тому, что ни одно стихотворение Щировского не было при его жизни напечатано. Открытие этого поэта произошло лишь в перестроечную эпоху, в 1989 г., когда Евг. Евтушенко опубликовал в своей поэтической антологии «Русская муза XX века» 4 его стихотворения с краткой преамбулой, суммировавшей основные биографические сведения об их авторе.[1565] Ныне лирика Щировского осмысляется как одно из соединительных эволюционных звеньев между русской поэзией символистской и постсимволистской эпохи и «теми поэтами-“метафизиками”, которые объединились в пятидесятые годы вокруг А. А. Ахматовой», самым ярким представителем которых был И. Бродский.[1566]
Щировский погиб в Крыму в ходе боевых действий летом 1941 г., там же, в Керчи, сгорел его архив, включавший рукописи стихотворений и переписку. Стихотворные тексты Щировского, вошедшие в рачительно подготовленный В. В. Емельяновым сборник «Танец души», лишь в единичных случаях основываются на рукописях самого автора, по большей части они известны по спискам, рукописным и машинописным, выполненным первой женой поэта Е. Н. Щировской и ее сестрой А. Н. Доррер; нет твердой уверенности в их аутентичности, тем более и потому, что многие стихотворения зафиксированы в тетрадях, изготовленных в 1950-е гг., и некоторые из них записаны по памяти, с отмеченными пропусками строк и строф.[1567] От людей, близко знавших Щировского, которым он мог передавать рукописи своих произведений, архивов также не осталось.[1568] Щировского дважды ненадолго арестовывали – в 1931 и 1936 гг.; вполне вероятно, что при этом были изъяты его рукописи. При таком положении дел с творческим наследием поэта выявление его автографов приобретает особую значимость. Сохранились автографы Щировского, в частности, в архиве Максимилиана Волошина.
А. Н. Доррер сообщает в кратком биографическом очерке о Щировском: «В 1928 году знакомится с будущей женой Екатериной Николаевной Рагозиной, и летом 1929 г. они вдвоем отправились в Коктебель к М. А. Волошину. У Вл. Евг. была к нему рекомендация от харьковских поэтов, и Волошин принял их очень гостеприимно (как обычно он принимал и многих других). Щировский читал свои стихи, был одобрен. Пробыли они десять дней, и на прощание М. А. подарил Владимиру свою небольшую акварель с коктебельским пейзажем, надписав ее: “На память Вл. Щировскому, за детской внешностью которого я рассмотрел большого и грустного поэта”».[1569]
Приведенные сведения могут быть уточнены. В. П. Купченко предположительно датирует пребывание Щировского в доме Волошина 3-й неделей июля 1929 г.[1570] Поэт появился в Коктебеле с двумя сестрами Рагозиными – Екатериной и Лидией, приехавшими вместе с ним из Харькова. Щировского рекомендовала Волошину харьковская поэтесса Елизавета Андреевна Новская (1893–1959), автор стихотворных сборников «Звезда-земля» (Харьков, 1918) и «Ордалии» (Харьков, 1923); впервые встретившаяся с Волошиным в феврале 1925 г., но состоявшая в интенсивной переписке с ним еще с 1918 г., она входила в ближайший круг его друзей и почитателей, неоднократно гостила в Коктебеле. В Харькове Щировский общался еще с одной близкой приятельницей Волошина и его жены Марии Степановны – Лидией Владимировной Тимофеевой (в замужестве Тремль; 1900–1990), «Дадой» по коктебельскому прозвищу, позднее в эмиграции опубликовавшей о Волошине мемуарный очерк.[1571]
«Дорогие Марусенька и Макс! – обращалась Новская в недатированном письме. – Это письмо передает Вам юный поэт, Володя Щировский, о печальной судьбе которого я как-то рассказывала Вам и стихи которого Макс однажды читал (в Х<арькове>) и одобрил. Он отправляется в пешеходное путешествие вдоль Черного моря – кажется, вместе с одной подругой своей (товарищем – в хорошем смысле этого), и начинают путь с Феодосии, конечно идя через Коктебель. И если у Вас найдется возможность где-ниб<удь> на чердаке, на балконе, вообще где-ниб<удь> дать им возможность 2–3 ночи переночевать, без всяких забот о них, – то я очень буду благодарна Вам и рада за них, т<ак> к<ак> несмотря на современный опыт и т. д. – это совсем не современные юные фантазеры и пессимисты. Знаю, что к Максу он относится с благоговением, и думаю, что они будут тихи, как мыши. Этот Вова – сын убитого губернатора, кажется, Седлецк<ой> губ<ернии>, потом – одно время – беспризорный, теперь – гонимый студент Богословск<их> курсов, потом, кажется, Инстит<ута> Литературы, – отовсюду вычистили его; собирается вновь где-то держать экз<амены>. Хорошо, талантливо прямо, играет, – и не плохо, культурно, пишет стихи. Но в жизни – чужой и несливаемый с нею. Простите, дорогие, за эту просьбу: не могу отказать им в этом письме».[1572]