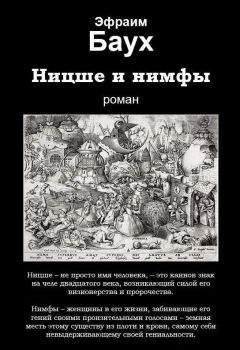В конце рассказа возникает новое значение самого названия. Почему пленный, а не пленник? Пленник — лишенный воли, узник, заключенный, невольник, что подразумевает альтернативу: освобождение из плена. В понятии «пленный» у В. Маканина эта альтернатива отсутствует. Пленный — это не просто неопределенное по времени, но константное состояние героя. Выходом из маканинского «плена» может быть только смерть.
Герой рассказа Рубахин навсегда остается в плену у гор, красоту которых он воспринимает инстинктивно, на глубинном генетическом уровне, тогда как на внешнем уровне сознания как уроженец степей их ненавидит: «И что здесь такого особенного! Горы?… проговорил он вслух с озлобленностью не на кого-то, а на себя. Что интересного в стылой солдатской казарме — да и что интересного в самих горах? — думал он с досадой. Он хотел добавить: мол, уж который год! И вместо этого сказал: «Уже который век…» — словно бы проговорился, слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль.
Черные замшелые ущелья. Бедные грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки горы! Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность — но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?»[62]
Маканина всегда интересовали человеческие отношения, глубинные, часто неуловимые, иногда мистические, не выраженные материально, реально тонкие связи, существующие между людьми (рассказы сб. «Отставший»: «Ключарев и Алимушкин», «Антилидер» и др.).
Переход от красоты природы к красоте человека совершается через взрыв чувственности, которая обнаруживается в странном, нестандартном, непонятном на внешнем уровне сознания восприятии Рубахиным красоты пленного юноши-боевика (некоего современного варианта Мцыри). Красота эта поразила Рубахина в самое сердце: «Длинные до плеч темные волосы. Тонкие черты лица. Нежная кожа. Складка губ. Карие глаза заставляли задержаться на них — большие вразлет и чуть враскос», «удивительная красота неподвижного взгляда», «чувствовать свою красоту ему было так же естественно, как дышать воздухом»[63].
Определенную ясность в эту нестандартную ситуацию вносит реплика солдата Ходжаева: «Два-три-пять человек на такого выменяешь. Таких, как девушку, любят». — Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в пленном боевике — юноша был очень красив»[64].
Красота, в концепции В. Маканина, может стать той силой, которая способна преобразить мир, разрушить все преграды: национальные, социально-политические, расово-биологические, культурные, этические, религиозные; лишь она способна объединить людей, прекратить войну всех против всех, спасти мир от ужаса взаимоуничтожения.
То чувство, которое Рубахин испытывает к юноше (то, что сейчас обозначается как нестандартная сексуальная ориентация), не квалифицируется писателем как «гомосексуальный зов плоти». Контакт между героями обозначен очень тонко, органично, как надежда на возможность понимания, которой лишено человеческое сообщество на всех уровнях, ликвидация главного зла, как писал Л. Толстой, разобщения людей. Ухаживания Рубахина за пленным юношей трогательны и нежны: отдал ему свои шерстяные носки (так как до этого разбил тому прикладом автомата ногу, когда не смог достать в броске убегающего); «заварил чай в стакане, бросил сахар, помешал ложечкой» (и это врагу, едва остыв от горячки скоротечного боя).
В обозначении психологического состояния героя, который сам не понимает, что с ним происходит: «ток податливого и призывного тепла», «ток чувственности», «заряд тепла и неожиданной нежности», «заволновался», «смущен наметившимися отношениями» и т. д.; сама лексика: ток, заряд, чувственность — обозначают такие отношения, связи, контакты, которые рациональному анализу не подлежат, это нечто, идущее из глубины человеческого сознания, обусловленного его внутренней природой, то, что не зависит от воли человека, от его разума, интеллекта, социальных ориентаций, национальной принадлежности, взглядов, убеждений и всего того, что определяется внешними факторами. Человек оказывается наедине со своими инстинктами, он выступает как биологическое существо с прихотливой, сложной, противоречивой природой. Понятия греха, этической нормы, общежитийных стандартов — все это разрушается перед внутренним зовом и инстинктивной потребностью осуществить свою нежность, необходимостью любить.
Но это мгновение понимания (читай — любви) разрушается, уничтожается, когда Рубахин задушил пленного, который своим криком мог выдать их местоположение во время боевой операции: «… Н-ны, — что-то хотел сказать пленный юноша, но не успел. Тело его рванулось, ноги напряглись, однако под ногами уже не было опоры. Рубахин оторвал его от земли, держал в объятиях, не давал коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатились бы с шумом. Той рукой, что обнимала, Рубахин блокировал горло. Сдавил: красота не успела спасти. Несколько конвульсий — и только»[65]. Вместо любовных объятий — объятие смерти. И как итог разрушения этой гармонии — выходящая уже за рамки рассказа последующая национальная и человеческая катастрофа.
Что осталось в душе русского человека, соприкоснувшегося с красотой, тайной, загадкой Кавказа, чужой жизнью, обычаями, традициями, всем, что составляет культуру нации в целом, и конкретной загадкой чужой души? Удивление, досада, озлобленность, раздражение, невнятица в мыслях, смущение, непонимание того, что произошло. Как злой ребенок ломает красивую игрушку, так и Рубахин убивает, уничтожает красоту, которая не может ему принадлежать, не может быть им понята в силу неразвитости его сознания, души.
Маканинский рассказ «Кавказский пленный», таким образом, становится явлением литературы переходного времени, в нем обозначено кризисное состояние мира и человеческой души, выход из кризиса возможен в идеале, но в действительности неосуществим.
Таким образом, литература постмодернистского звучания, опираясь на существующую литературную традицию, творческий опыт писателей предшествующих этапов развития культуры, тем не менее создает самодостаточную художественную реальность.
М. Липовецкий, подчеркивая глобальность притязаний русского постмодернизма на идейно-художественное господство, пишет о том, что постмодернизм не претендует на роль еще одного течения в плюралистическом ландшафте, а настаивает на своем доминировании во всей культуре[66].
Действительно, постмодернистская эстетика проецируется на различные явления современной культурной жизни, характеризуется многообразием форм.
Попытки подвести итог постмодернистского этапа в современной русской литературе предпринимаются многими исследователями, но изучение этого феномена тем не менее не закончено. Сама природа этой уже сложившейся, но еще не разрушившейся художественной системы заключает перспективу дальнейшего развития.
СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
Алешковский Ю. Собр. соч.: В 3 т. М: ННН, 1996.
Аксенов В. П. Собр. соч.: В 5 т. М., 1995.
Бородыня А. Парадный портрет кисти Малевича // Дружба народов. 1989. № 9; Цепной щенок // Знамя. 1996. № 1; Мама и парное молоко. Функ-Элиот // Московский круг. М.: Московский рабочий, 1991.
Буйда Ю. Веселая Гертруда // Знамя. 1994. № 3; Ярмо // Знамя. 1997. № 2.
Войнович В. Малое собр. соч.: В 5 т. М.: Фабула, 1994; Замыслы. М.: Вагриус, 1986.
Веллер М. Легенды Невского проспекта. Спб.: Лань, 1994; Вот те ШиШ. М.: Вагриус, 1994.
Вишневский В. П. Поцелуй из первых уст. М.: Правда, 1987; Подписка о взаимности. М.: Московский рабочий, 1986.
Галковский Д. Бесконечный тупик // Новый мир. 1992. № 11.
Горенштейн Ф. Избр. произв.: В 3 т. М.: Слово, 1991–1993.
Головин Г. Чужая сторона. М.: Квадрат, 1994.
Гаврилов А. В преддверии новой жизни (1990); Старик и дурачок (1992); История майора Симинькова // Русские цветы зла. М.: Подкова, 1997.
Губерман И. Иерусалимские гарики. М.: Политекст, 1994.
Довлатов С. Собр. прозы: В 3 т. Спб.: Лимбус-пресс, 1995; Малоизвестный Довлатов. Спб.: Лимбус-пресс, 1996.
Еременко А. В. Собр. соч.: В 3 т. М.: Союз фотохудожников России, 1994–1996.
Ерофеев Вен. Москва — Петушки. Рига, 1991; Вальпургиева ночь, или Шаги Командора // Восемь нехороших пьес. М.: Главная редакция театральной литературы, 1990; Избранное. М., 1996; Василий Розанов глазами эксцентрика // Русские цветы зла. М.: Подкова, 1997.
Жданов И. Неразменное небо. М.: Современник, 1990.
Ильянен А. И финн // Митин журнал, 1990.
Каледин С. Смиренное кладбище. Стройбат // Избр. М., 1992; Берлин, Париж и Вшивая рота // Континент. 1997. № 84.