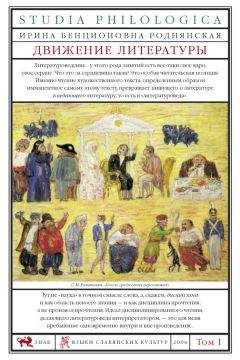Ознакомительная версия.
Конечно, это не личная только коллизия Павла Алексеевича, а историческая, эпохальная. К природе должен бы прийти и прикоснуться кто-то другой, бережный, нареченный, а приходит Костюков со товарищи. «Ели, ручьи, травы – они привычно ждали человека наивных знаний и больших страстей, но те века кончились». И взлетает корнями вверх маленькая елочка. И стираются волнующие, вожделенные изгибы и очертания Земли. (Сравним с раздумьями композитора Башилова, который тоже ведь чувствует себя – в духовном измерении – разрушителем, истощившим родную почву Аварийного поселка: «Он смотрел туда, где сходилось небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия… рождала мелодию еще раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, эта волнистая линия плодоносила именно в воспоминаниях и только в воспоминаниях. Он ее унес. И здесь, наяву, эта местность ничего не рождала. Она была выпита, как бывает выпита вода, водица…»).
Павел Алексеевич плывет внутри этой большой всемирно-исторической коллизии, как щепка в потоке: повадливый, ничему не противящийся потребитель заповедной красоты. Неустранимое, но бездейственное чувство вины, «сухая постоянная боль» изнутри подсвечивает его скорбным отливом, притягательным для простых женских душ. Так что, при желании, в его «матером, хриплоголосом, потасканном облике» можно разглядеть вырожденного Печорина, перекочевавшего наконец в дальние страны и умершего там от дизентерии; в толстой же поварихе Джамиле, в ее влюбленных речах: «Твоя сильный. Твоя сладкий», – черкешенку Бэлу.
Что до прозаически-бытового лица Убегающего гражданина, до его несполна уплаченных алиментов и покинутых некогда малюток, то посмотрим, как совмещается в этом пункте поэтически-гротесковый план с нравоописательным. Кто эти «девчушки» в перемазанных и перелатанных джинсах, мотающиеся по усть-турской стройплощадке и с хихиканьем окликающие Павла Алексеевича: «Ну, товарищ бригадир, ну не будьте сукой… Мы работать хотим. Мы знаете откуда приехали!.. – Приходите, – сказала рослая, – к нам в восьмую и влюбляйтесь, в кого хотите, влюбляйтесь, не из пугливых мы… – Ну, вы, – взревел Василий… – Вы сначала узнайте, не ваш ли он, однако, отец, не с папашей ли в жмурки играете!» Кто та крепенькая малярша, одна из матерей костюковского выводка, у которой до Павла Алексеевича был Колька-бульдозерист и которая «все грозилась, что родит»? И не был ли похож ее Колька на седого пятидесятилетнего мужика Витюрку, с гитарой и бутылкой кочующего вслед за Павлом Алексеевичем и имеющего свое право вместе с третьим из мушкетеров, сентиментальным Томилиным, воскликнуть: «… это мы построили поселки, это мы обжили все эти болота…»? Обитательницы же типовых поселков, подсобницы и маркитантки армии технического прогресса – разве попадают они в условия, согласные с их женственным естеством и предназначением? Разве не реальна угроза того, что отношения между полами здесь будут складываться, мягко говоря, беспорядочно? Разве уже не предупреждали нас В. Распутин и В. Белов о неизбежном падении нравов на лесоповале, например, и вообще в таких вот временных поселках, занятых кочевыми подразделениями раскорчевывателей и свежевателей природы?
Как и в случае с Ткачевым из «Полосы обменов», неочевидная вина Павла Алексеевича – передового гвардейца «неурядья» (здесь будет кстати слово из распутинского «Пожара») – выделена и подчеркнута по сравнению с его очевидной виной. Зачем ломиться в открытую дверь? Ничего, понятно, нет хорошего в том, что Костюков оставляет после себя матерей-одиночек и безотцовщину; не меньше виноват он и перед своей «еще в общем живой» матерью – плохой отец и плохой сын, ведущий, в отличие от уже знакомых нам персонажей, свой «род» не вверх, а вниз. «Опять просишь денег, но ведь нет их у меня, мать, нет. Сама знаешь: я не держу деньги… нет у меня денег… сдохну я скоро… И не упрекай меня тем, что ты хочешь купить телевизор… Ты уже старенькая, восемьдесят тебе, старенькая моя и слепенькая, как-нибудь обойдешься, зачем тебе телевизор? Твой Павел». Циническое это письмо – правдиво. Павел Алексеевич, действительно, отдав все до последней полушки, уйдет в землю, которую он корежил, нагим и выжатым – и так с нею, любимой и губимой, примирится («… бог дал легкую смерть»). Повсюду гонятся за ним Эринии в хамоватом обличье его «сынов», этих порождений насаждаемого им же образа жизни. И он стыдится их («сложное чувство», – замечает соглядатай-автор); ведь свои все же сыновья, а не пришлые «архаровцы». Как стыдится и той пошлой маски «таежного волка», «клевого мужика», не совпадающей с его внутренним зерном, но приросшей к лицу, – какую они, по-своему любя отца, лихо у него перенимают. А тот, сколько ни силится откупиться и убежать, откупается только смертью. Смерть виновного, но не упорствующего в малодушных оправданиях героя, как в античной трагедии (разыгранной здесь под оболочкой грубого фарса), вполне удовлетворяет чувству справедливости тех, кто следит за ее перипетиями. Это чувство строгое, без слезливости и без форсированного негодования. И незачем вбивать осиновый кол в безвестную могилу. Не лучше ли задуматься над истоками беды и вины Павла Алексеевича, над смыслом и целью решающей, должно быть, встречи современного человечества с девственной жизнью земли?
Здоровой литературе равно необходимо и набатное звучание распутинского «Пожара», зовущего всех немедля справиться с угрозой, и чисто художественная закваска «Гражданина убегающего», рассчитанная на медленное проникновение в души.
Владимир Маканин, как сказали бы в старину, – художник по преимуществу. Это не значит, что он во всем хорош и силен. Написал он и немало пробного, особенно поначалу, иногда же – просто развлекательного. Это не значит также, что его кругозор отличается каким-то особым охватом. Нет, на первый случай, он слишком недоверчив к работе человеческого самосознания, ему не дается герой, способный своим словом выразить идею собственной жизни, заслуживающий того, чтобы быть не только рассмотренным, но и выслушанным. В жизненном мире его прозы преобладают автоматизмы, навыки существования, на коих сосредоточен его беспощадный и умный глаз. И это, конечно, «не вся правда». Хотя и крайне необходимая ее часть.
Называя Маканина художником прежде всего, я хочу сказать, что большие вопросы времени он ставит так, как это свойственно только искусству: он не поражает, а исподволь заражает ими. Мы узнаем себя в его «портретах» только после определенной внутренней работы, не всегда приятной и часто безотчетной, но что-то неприметно меняющей в глубинных ориентациях. Искусство, как капля, точит камень нашей поверхностной самоуверенности – уверенности в том, что мы знаем жизнь и знаем самих себя. Искусство – не только самое доходчивое, но и самое трудное средство социального общения. В этом, по-моему, заключается один из уроков спора вокруг Маканина.
Сюжеты тревоги
Маканин под знаком «новой жестокости»
… раздражает телевидение, рассказы об убийствах, расчлененки в подъездах, закопанные в мусорных баках младенцы… бесчисленные алкоголики, сгоревшие в квартирном пожаре…
«Раздражает» все это сверхчувствительного персонажа повести «Долог наш путь», которою Маканин открыл 90-е годы: Илья Иванович (антипод толстовского Ивана Ильича – того проняла лишь собственная смерть), не выдержав череды подобных заурядных впечатлений, истаивает и гибнет в психиатрической больнице…
Трудней всего писателю – если он серьезен. По роду деятельности он обязан быть не менее отзывчивым, чем такой патологический сострадатель, но, тут же, предельно стойким перед лицом неизменного (или нарастающего?) гнета жизни; ведь акт творчества – даже когда и не приводит к катарсису – это всегда «сублимация», возгонка любого ужаса в слово и образ, предполагающая в определенные моменты чуть ли не циническое хладнокровие.
Вдобавок для прозаиков, достигших зрелости полутора-двумя десятилетиями раньше, переход в новое российское время психологически близок к эмиграционному шоку; попадание в зону игры без правил, именуемую свободой, сходно с попаданием за бугор: «Сплошь и рядом, выдернув ногу из вязкой глины, ты опускаешь ее на зыбучий песок» (как удачно сказано А. Найманом по поводу географической эмиграции).
Пережил ли Маканин этот шок без потерь, ответ на это пусть дает его большой роман, но до романа он опубликовал в журналах 90-х годов цепочку повестей и рассказов, порой донельзя странных, порой и не претендующих на удачу, иногда же – пронзительно впечатляющих, но во всех случаях – не тех, что прежде. Под тремя обширными композициями, помеченными 1987 годом, – это «Один и одна» (недооцененный маканинский шедевр!), «Отставший» и «Утрата» – подведена черта; больше ни слова ни о «месте под солнцем», ни об уральских легендах, ни о барачной коммуне, ни о прагматиках, потеснивших увядающих идеалистов; другое время – другие песни. Примечательно, что Маканин, назвавший годы, когда слово «рынок» и шепотом не произносилось, а между тем покупалось и продавалось все – карьера и душа, жена и любовница, «мебельным временем», сейчас и звука не проронит о «поре мерседесов» или «поре пирамид»: он знает, что не эти колеры нынетекущего времени – главные.
Ознакомительная версия.