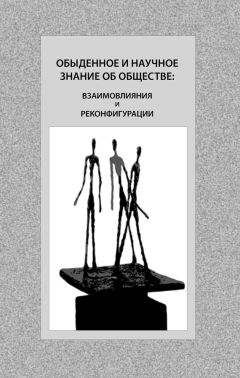Однако, снимая в своей форме структуру времени (историчность как гетерогенность общества и прерывность культуры с вытекающей отсюда проблематикой культуротворчества и культурного синтеза), серия вместе с тем проблематизирует, заставляет переживать его процессуальность. Больше того, в ней кумулируются знаки временности: дата выхода нового выпуска отмечает передвигающуюся точку современности и в этом смысле границу прошлого. Тем самым стимулируется переживание самой процедуры назначения времени, его разбиения и синтеза. Иными словами, индивид сознает, как в процессе ожидания нового тома он осуществляется в качестве субъекта. И вот это-то ощущение разрыва между уже полученным и планируемым томами реконструирует само принципиальное устройство субъективности — презумпцию и модус ее существования, волевого собирания себя. Серия в этом смысле двузначна, как двузначна дата издания книги. Точнее, она прочитывается с позиций разных групп по-разному.
Для культурогенных групп эта временная отметка есть уходящая точка самотождественности, условного равенства себе. Современность здесь понимается как место производства прошлого. В этом смысле «реально» (а потому с неизбежностью условно) только открытое в его неопределенности будущее, в движении к которому прошлые состояния отсекаются в качестве уже прожитых. Время отсчитывается по прошлому, от современности вспять, обратно тому, как оно для этой группы действительно идет. Для рецептивных же групп как таковых (функциональные различия между ними здесь для нас неважны) временная отсечка настоящего «включает» будущее — «запускает» большое время общества, письменной культуры, в котором с данного момента и впредь числится данный индивид.
Таким образом, накоплением прошлого (в том числе — в виде библиотеки) гарантируется будущее. Очевидно, здесь в действительности реально только прошлое: ведь именно оно — как известное и готовое — есть в этом смысле разведанное, обеспеченное, запрограммированное будущее. Собиратель заранее осознает (и создает) себя первооснователем. Время, как бы говорит он, начинается с меня. Социальный и культурный возраст книговладельца, стаж его дееспособности в качестве взрослого равен возрасту его книжного собрания (но еще и квартиры, мебели, телевизора и т. п.), они — сверстники. Показательно, что собираются при этом только что изданные книги: моменты их издания и включение в библиотеку (смыслового отождествления) синхронизированы, как день выхода в свет газеты и ее покупки, время трансляции телепередачи и ее просмотра. Характерно, добавим, что собственная дееспособность понимается именно как право на общее — то, что есть или будет у всех[88].
Установка на программирование будущего за счет наращивания прошлого диагностирует, как можно полагать, начальную фазу существования в «культуре». Это своего рода форма первого осознания самой возможности наличия значений, действие которых выходит за пределы типовых ситуаций, образующих порядок повседневности. Характерна распространенная мотивировка книгособирания будущими запросами детей. Сама же конструкция «прошлого в будущем» в принципе лежит и в основе идеологии тотального планирования. В этом смысле не случайно, что подобный, если воспользоваться выражением Чаадаева, «ретроспективный утопизм», когда накопление потенциала прошлого должно гарантировать устойчивость в будущем, объединяет установки как массового книгособирателя, так и обеспечивающих его контролирующих и издающих инстанций. С их точки зрения, отсрочка реализации нового должна позволить тому или иному тексту, автору и т. п. пройти селекцию и выдержать отбраковку, стать классикой, а уж тогда его по всем признакам придет время печатать. Тем самым руководство ведомством (как и новый собиратель, со своей точки зрения) обеспечивает себе временной резерв существования, перспективу сохранения своей значимости. Доминирующую позицию, господство над ситуацией и ее динамикой номенклатура предполагает удержать за счет контроля над выдвижением других социальных и культурных сил, усилением дифференциации общества, умножением разнообразия культуры.
То, что индивидуальное и групповое (семейное) время синхронизировано с социетальными временными размерностями, которые структурируют существование формальных институтов и общества в целом, составляет важнейшую характеристику социальной ритмики, определяющей бытие рецептивных групп. Важно добавить, что движущей силой этого бытия, пусковым устройством действия (и механизмом его хронологического измерения) является двойное сравнение — с опережающей группой и группой последующих. Подобное сопоставление задает, с одной стороны, линейную, градуированную в нормативно-физических единицах (день, месяц и т. д.) структуру времени, а с другой — смысловое направление его движения, «догоняния» («железнодорожное сознание», по выражению Ю. А. Левады). Детализировать временные размерности воплощающих подобное сознание домашних библиотек можно было бы по фазам «семейной биографии» — этапам жизненного сценария семьи, сопровождающимся радикальной трансформацией ролевых («возрастных», «профессиональных», «образовательных» и т. п.) определений участников и размеченным ключевыми точками коллективной мобилизации семьи либо, напротив, ее дифференциации и даже дезинтеграции. Иначе говоря, меняющаяся композиция домашнего книжного собрания выражала бы динамику взаимодействий членов семьи с институционально-групповой структурой общества, сдвиг их ориентаций и самооценок.
Принципиальным для характеристики домашних собраний является, далее, соотношение собственно печатного (текстового, коммуникативного, содержательного) и изобразительного (визуально-фигуративного, относящегося к оформлению). Это соотношение различно как в самой структуре домашней библиотеки, так и в балансе идеологических оценок книги и книжного собрания.
Рассмотрим культурные значения того и другого компонента оценки подробнее. Собственно печатные характеристики (семантику печатного) социологически можно трактовать как фокус, к которому стянуты значения «общества», понимая это последнее в реальном разнообразии его дифференцированного институционального и группового состава, с одной стороны, и соответствующих универсалистских типов регуляции поведения — с другой[89]. Обобщенный смысл «печатности», напечатанности — предоставленность любого содержания любому адресату, определенному лишь в принципе профилем его интересов и уровнем компетенций. Соответственно, такой тип представлений и ориентаций коммуникатора задает передаваемому сообщению характеристики аффективной нейтральности, формальности, специализированности. Можно сказать, что коммуникация здесь организована как повествование в индикативном залоге.
В историческом плане легко показать, что именно эти характеристики служили выражением нарождавшегося этоса городского индивидуализма с его принципами самоответственности и самоорганизации, дифференциации компетенций и полномочий, кумуляции знаний и навыков. Им противостоял аристократический сословный этос с его замкнутым кодексом статусного поведения. В основном оно опиралось на устную речь и непосредственное лицезрение вещной атрибутики — аудиальный и визуальный коды, обеспечивающие прямые внутри- и межгрупповые формы коммуникации. Демонстрирование социальной дистанции всем остальным группам общества делало традиционалистское поведение аристократии высоко эмблематическим, церемониальным, антицелевым, преимущественно или даже целиком репрезентативным. Показательно, что для этих кругов характерен высокий престиж театрального искусства и поэзии — декламации и непосредственного представления тех же статусно-символических форм образцового поведения. В то же время аристократия подчеркнуто пренебрежительно относится к роману, письменности и печатной книге: они выступают сословными атрибутами образа жизни более «низких» — средних слоев (скажем, рыцарский роман еще долго сохраняет в своей форме структуру серии рассказанных новелл, а записанность и напечатанность выступают в данном кругу знаком, отсылающим к реальной для участников ситуации устного рассказа или устного исполнения стихов самим автором). Как мнемонические значки предписанных типовых ситуаций социального взаимодействия книги — подчеркнуто нетронутые — и собираются аристократией. Характерно, что они объединяются при этом в ансамбли с другими подобными атрибутами сословного образа жизни — охотничьими и военными трофеями, утварью, платьем. Все это позднее составляет фонды городских музеев, напоминающих пореволюционному бюргерству о прошлых образах жизни, «старом режиме». Подчеркнем, что собственно коммуникативные характеристики печатного текста при этом приглушались или даже вовсе гасились его встроенностью в статусную обстановку, в том числе роскошными переплетами, привлекающими преимущественное внимание к «внешности», во-первых, и включающими книгу в ансамбль символических атрибутов «роскошного» убранства (мебель, обои, шпалеры и т. д.), во-вторых. Обобщенную модальность существования подобных символических образцов (в их подчеркнутой изобразительности, обращенности к глазу) можно определить как императивную. Ситуация же непосредственного и принудительного созерцания как бы выключена этим из «времени» — выведена за пределы сопоставления со всеми другими социальными структурами и символическими системами взаимодействия, кроме самого факта демонстрации и восприятия символов абсолютного — предписанного и недосягаемого — авторитета. Именно в этом качестве радикалы статусно-аристократического, традиционалистского образа жизни позднее выступили для авангардно-декадентских, антибуржуазных по своей направленности культурных групп второй половины XIX — начала XX в., символами противостояния опошляющей и нивелирующей прозе жизни, нарушения обыденности пресного мещанского существования. Будучи же адаптированы к 1910–1920-м гг. широкими кругами обеспеченных горожан в качестве модной роскоши, они, далее, стали объектами отвержения для радикально-аскетически настроенных идеологических групп либо предметами игрового осмеяния, пародирования для собственно культурного авангарда (потрепанная или оскверненная роскошь как элитарный китч). Примерно эта гамма значений была освоена, переакцентирована и исчерпана в отечественной культуре в период между 1920-ми и началом 1980-х гг. (если не углубляться далее). Книга проделала путь от массовой, непродажной, подчеркнуто недолговечной брошюры, с одной стороны, и заботливо подготовленных авторитетными учеными и литераторами, оформленных ведущими художниками изданий «Academia» — с другой, до массовых тиражей и глянцевых пестрых переплетов, цветных иллюстраций в тексте и т. п. изданий «Правды» и «макулатурной» серии.