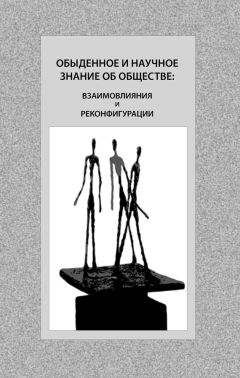Вместе с инновационными группами и их ближайшими последователями из общественной жизни при этом уходили и универсалистские ценности, обобщенные нормы. Единственной формой обобщенности выступал теперь унифицирующий механизм рекрутирования и язык инструкций ведомственного управления. Общая склеротизация общества — всех систем межгруппового и межинституционального взаимодействия — развивалась как разрушение генерализованных посредников взаимодействия и его универсалистских принципов, критериев и форм (экономических, политических, правовых и т. д.). Партикуляризация же форм общественной жизни (разрастание отношений «своих») по горизонтали, воспроизводя в каждой изолированной ячейке структуры одну и ту же матрицу статусно-иерархического контроля и исполнения, распределения и потребления, имела своим следствием натурализацию форм обмена. Вещи и состояния, связанные с позициями власти и богатства, наделялись символическим статусом, способностью однозначно сигнализировать о положении владельца. Прежде всего это коснулось предметов и занятий, в семантике которых были отчетливы значения аристократического. Это выразилось в изымании данных символов из сферы обмена и присвоении их в качестве ресурсов власти — в накоплении, коллекционировании. Определяющим становилось то, что у одних есть, у других — нет. Именно такая ось социальной идентификации и дифференциации оказывалась главной. Собирание же по самому смыслу действия еще более замыкало, изолировало владельца в его жизненной обстановке и, при единообразии источников и мотивов комплектования, усугубляло изоляцию ячеек социальной структуры. «Концом» процесса социальной кристаллизации культурно-рецептивных групп стало распространение характеристик коллекционности даже на наиболее универсальные, а потому долговременно действующие, но и самые дешевые, еще относительно доступные, «демократические» коммуникативные посредники — книги.
Блокировка социальной дифференциации, атрофия культурных коммуникаций и замораживание общественной динамики нашли выражение в установлении дефицитного режима существования практически для всех групп населения. Отдел спецобслуживания в государственной библиотеке и киоск продуктового спецобслуживания в столовой суть воплощение того же дефицитного образа жизни в центре, как продуктовые карточки на периферии и очередь, ведущий тип социальной организации и самоорганизации подобного общества[98], практически повсюду. В этом смысле реализованная аппаратом ведомственного управления культурная программа эпохи культпросвета имела своим результатом кристаллизацию в масштабе общества атомизированных партикулярных форм и связей, организованных по образцу статусно-иерархических отношений господства. В целях отсрочки полного кризиса сложившаяся, но необъявленная структура была частично легализована и идеологически оформлена в культурную программу эпохи дефицита. Тем самым в середине 1970-х гг. под старыми вывесками получила признанную форму и идейное узаконение фактически совершенно новая система социальной организации письменной и книжной культуры. Над прежней «воспитующей» (школьной и армейской) моделью была надстроена дефицитарная («чернорыночная»). Соответствующие модели общества и воплощающие их фигуры («культурный человек», «человек воспитуемый», «человек с потребностями», «человек с возможностями» и др.) получили институциональное выражение и дифференцированные сферы действия. В 1974 г. было образовано Всесоюзное общество книголюбов (для «людей с возможностями»), созданы «библиотечная серия» (для «воспитуемых» по образцу «культурного») и «макулатурная» библиотека (для людей с потребностями). Из тупикового состояния книжное и библиотечное дело с помощью этих мер, как вскоре стало ясно, не вышло.
1993Чтение и общество в России[*]
Выход в свет книги А. И. Рейтблата «От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века» (М., 1991) — факт примечательный, и притом по нескольким резонам. Во-первых, она вышла (заслуга Московского полиграфического института), а это для книги, написанной специалистом и посвященной специальной теме, сегодня уже много. Во-вторых, в ней сведены разрозненные, малодоступные, с одной стороны, и собственными трудами автора добытые — с другой, тысячи исторических фактов, относящихся к литературе и чтению. Тут фигурируют произведения, с 1856 по 1895 год вызвавшие самые горячие отклики читателей тогдашних журналов и «современной», злободневной словесности. И наряду с привычными Островским и Тургеневым здесь найдешь М. Воскресенского и Г. Кугушева, с Гончаровым и Помяловским — И. Железнова и Е. Карновича, Н. Ахшарумов «потеснит» тут Л. Толстого, а Д. Аверкиев — Н. Щедрина, Н. Преображенский и В. Марков встанут рядом с Достоевским и Лесковым, а многолетним лидером читательских пристрастий, чье имя соединит несколько десятилетий, окажется… П. Боборыкин. Для привыкшего к образу литературы по академическим собраниям сочинений или избранному классиков — картина куда как непривычная. Потому что живая.
Но важен, конечно же, не только сам материал, кропотливо полученный и детально представленный. По-настоящему «работает» он только в системе, выстроенной автором, а по масштабности и систематичности подхода к своему предмету поставить рядом с книгой А. Рейтблата в отечественной науке сейчас, сколько знаю, нечего (даже основательная коллективная «История русского читателя», четырьмя выпусками вышедшая в 1970–1980-х гг. в тогдашнем Ленинграде, по многосторонности охвата рецензируемой монографии заметно уступает). Здесь прослежено читательское поведение всех основных слоев российского общества, приняты во внимание все каналы, по которым к широкому читателю приходили во второй половине прошлого века беллетристика, публицистика, популярная наука. От общего очерка читательской аудитории второй половины XIX в. (разных читательских слоев и групп в их взаимодействии и динамике) автор переходит к коммерческим городским читальням, захватывая попутно историю кабинетов для чтения и платных библиотек в Европе. Далее предметом исследования становится писательский успех — самые признанные и дорого оплачиваемые авторы нескольких десятилетий. Тут Рейтблат наряду с анализом мемуаров и переписки той эпохи прибегает к свидетельствам библиотечной статистики; кроме того, использует такую процедуру, как сопоставление репутации того или иного автора в рецензиях на его произведения с репутацией его современников и предшественников — анализ этих отсылок на протяжении полувекового периода дает выразительную картину пристрастий и переменчивости журнальных рецензентов, а вместе с ними и наиболее образованной публики. Главы, посвященные читательской аудитории тонких журналов и массовых газет, вводят новый круг явлений. В том числе — десятки творцов популярной словесности, ныне практически безымянных: автора некогда знаменитого «Разбойника Чуркина» Н. Пастухова и виртуоза уголовного романа А. Деянова, создателя «низовых» исторических романов Д. Дмитриева и разрабатывающего золотую жилу мелодрам из красивой жизни А. Пазухина. Точно так же в следующей далее главе о лубочной книге в среде крестьянства воскрешаются скупые и труднодоступные факты жизни и творчества И. Ивина и М. Евстигнеева, К. Голохвастова и В. Волгина — прежних королей «словесности с Никольской улицы». Последние главы труда А. Рейтблата отведены чтению крестьян, их постепенному приобщению к светской книге, журналу, газете, их домашним библиотечкам, с одной стороны, и общественным инициативам по обучению крестьян грамоте и чтению со стороны земства — «народным библиотекам», с другой. И все это — с привлечением десятков малодоступных, в том числе архивных, источников, с добротно проверенными цифрами в руках, с кропотливым знанием мельчайших фактов из обихода ушедших групп общества, целых поколений забытых писателей, издателей, читателей.
Наконец — и это, может быть, самое существенное, — перед нами труд социолога, а с этой наукой у нас в стране ситуация как была, так и осталась далеко не блестящей. Книга А. Рейтблата написана из дня сегодняшнего (без этого, думаю, ни главы о буме тогдашних толстых журналов, ни страниц о массовом развлекательном чтении попросту не было бы). Но вместе с тем она соединяет наше сегодня с теоретическими поисками начальных пореволюционных лет (поздние работы опоязовцев, попытки функционального подхода к литературе в трудах А. Белецкого и др.) и вводит в более широкие и значимые рамки исторической социологии культуры как дисциплины эмпирической.