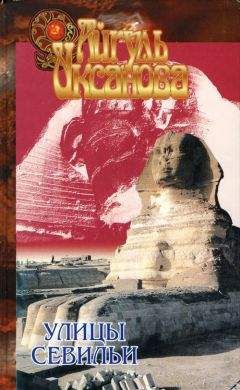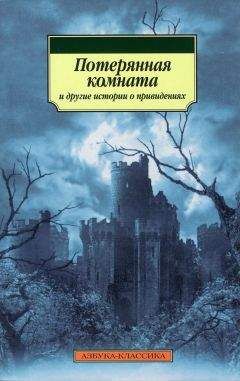Вертов в работе над «Тремя песнями» исходил из реальных обстоятельств. В частности, он записывал тогда в своем дневнике: «Всем известно, что кинодокументального живого Ленина почти нет. Отдельные сохранившиеся кусочки многократно использованы. Задача состояла в том, чтобы найти единственно правильное решение: как без (почти без) изображения Ленина сделать о нем фильм-документ»108. В этих условиях одни и те же немногие кадры с Лениным приходилось повторять в полнометражной ленте снова и снова. Они становились полноценным компонентом ритмического целого, некими строками кинопоэзии, в которой изображение рифмовалось с другим изображением, а идущие параллельно зрительному ряду надписи активно поддерживали подобную структуру, формируя четко прослеживаемый энергичный темп повествования.
Поиски в области словесной надписи были для Вертова характерны в течение всего его творчества. При том, что он последовательно выступал против участия слова в документальном изображении, он также был радикальным приверженцем абсолютного кино. В своей повседневной практике Вертов, тем не менее, постоянно и очень плодотворно разрабатывал неведомые в прошлом возможности написанного на экране слова. В этих экспериментах режиссер опирался на опыт и открытия единомышленников в области художественного творчества – от поэтов В. Маяковского или У. Уитмена, художника и фотографа А. Родченко до кинематографиста С. Эйзенштейна. Исследователи творчества Вертова отмечали его приверженность к поискам в смежной, на первый взгляд, далекой от кинематографа литературной сфере. «Первым объектом эксперимента (у Вертова – А. В.) становится такая, казалось бы, служебная, вспомогательная, чисто информационная вещь, как надпись. Режиссер превращает ее в самостоятельную монтажную единицу наравне с кадром, разнообразит шрифты, размеры букв, широко пользуется приемами мультипликационной съемки, повышая этим эмоциональное воздействие хроникального материала до степени могучего агитационного призыва»109.
Действительно, для того чтобы надпись естественно читалась в предлагаемом зрителям кинематографическом «стихотворении», Вертов обращал особое внимание на то, чтобы своим внешним обликом «строки» этих четверостиший (или двустиший) были предельно единообразны. С этой целью они не рисовались, как у других, художником вручную, а печатались в типографии и затем снимались камерой. Иногда (для большей достоверности) надписи непосредственно переснимались из газет. Уже в одном из выпусков периодического хроникального вертовского журнала «Киноправда» (1922—1925) режиссер позволял себе вставить титр, созданный Родченко, в котором заключалась едкая авторская ирония в адрес тех, кто покидал постреволюционную Россию: «Куда… Куда… Куда вы удалились…» И в других случаях Вертов позволял себе выходить в титрах за строгие рамки кинематографических правил и вступать в диалог со зрителями.
Сегодняшнему зрителю эти политические эскапады вместе со славословиями в адрес вождя революции покажутся, конечно, чрезмерными, но нас здесь, понятно, интересует не политическая, а эстетическая их составляющая. Поэтому титры-обращения как к изображенным на экране персонажам, так и, косвенно, ко всем зрителям, например: «Куда вы спешите?.. В церковь или вечернюю школу?.. В клуб?.. Или в пивную?..» (фильм «Шагай, Совет!», 1926), – свидетельствуют о настоящем прорыве вертовской модели документализма. Вообще, в его фильмах нередко можно встретить размашистые, в стиле Маяковского, диалоги с миллионами людей, причем построенные в агитационно-императивном стиле: «Вы, купающие овец в морском прибое… И вы, купающие овец в ручье… Вы… В аулах Дагестана… Вы… В сибирской тайге… Вы… В тундре… На реке Печоре… И вы… Свергнувшие в октябре власть капитала… Открывшие путь к новой жизни… Прежде угнетенным народам страны… Вы… Татары, вы… Буряты… Узбеки… Калмыки… Хакасы… Вы, коми из области Коми… И вы, из далекого аула… Вы, на оленьих бегах… Мать, играющая с ребенком… Ребенок, играющий с пойманным песцом… Вы, по колено в хлебе… Вы, по колено в воде… Вы, прядущие шерсть в горах… Вы все… Хозяева советской земли… В ваших руках шестая часть мира» (фильм «Шестая часть мира», 1926).
Здесь, к сожалению, невозможно в полной мере воссоздать все многообразие форм и смыслов, используемых Вертовым в надписях к его лентам. На бумаге можно адекватно воспроизвести лишь текстуальную конкретику титров, но режиссер, наряду с этим, постоянно использовал самые разные средства, которые можно оценить в полной мере разве что на монтажном столе. Вертов замечательно пользовался таким качеством надписей как размер составляющих их букв. Если во весь экран было написано короткое «ВЫ», то это воспринималось зрителями не только как смысловой акцент, не только как короткая строка а-ля Маяковский в рваной стихотворной «лесенке», но и как звуковое форте, даже фортиссимо. Говоря иными словами, режиссер в немом фильме достигал очевидного звукового эффекта, позволяя сделать резкий акцент, выделить из контекста отдельное ударное слово.
Продолжая тему, можно отметить еще и то, какой смысл имела длина пленки (отдельного кадра-надписи, вклеенного в монтажную фразу), от которой зависело фактическое время нахождения на экране, долгота «звучания» (произнесения) того или иного текста. Этим способом Вертов достигал, казалось бы, совершенно невозможного в немом кино эффекта, эффекта темпа авторской речи. Занимающий много экранного времени, относительно длинный кусок пленки с неизменным текстом задает неспешный, торжественный ритм повествования, соответствует плавному, эпическому течению речи. Короткое время нахождения надписи на экране, напротив, взвинчивает темп, делает авторское высказывание более торопливым, эмоциональным, страстным. Тут, правда, возможности кинематографиста не были безграничными. Они лимитировались во время создания его фильмов тем обстоятельством, которого касался в приведенном выше свидетельстве А. Довженко. Зрительская аудитория первых постреволюционных лет была в большинстве своем полуграмотной, и считывать с экрана быстро меняющиеся на нем надписи ей было не под силу.
Зато надписи-повторы – титры, создающие ощущение нагнетания сходных, идущих в одном направлении, мыслей и эмоций, неплохо усваивались новой российской аудиторией. Они были вполне в русле того процесса единопонимания, которое в первое послереволюционное десятилетие стало обстоятельством, сближающим леваков-новаторов в искусстве с руководителями культуры новой власти. Те и другие мечтали о единомыслии и единстве народа и его авангарда, те и другие не видели в этом единомыслии грядущих опасностей. В отличие от любого изображения (пусть даже фотографического, созданного не рукой художника, а механизмом съемочной кинокамеры) слово, в особенности слово-лозунг, слово-девиз выглядело более определенным и однозначным.
Если изображение в зависимости от разных обстоятельств допускало те или иные толкования (на этом их качестве, кстати сказать, основывалось то явление, которое в ранней отечественной теории кино получило название «эффекта Кулешова»), то титр, в особенности лаконичный по количеству слов, четкий по смыслу, занимающий, при этом, львиную долю площади экрана, к тому же изначально обладающий заложенной в него энергией и императивностью, ритмичный, как строфы из агитпоэзии, и т. д., обладал ни с чем не сравнимой однозначностью. В некоторых отечественных документальных лентах 1920-х годов, не только вертовских, яркие по литературной форме, мускулистые, написанные во весь кадр титры ничуть не уступали по выразительности изобразительному ряду, а то и превосходили его. Но, главное, они не становились второстепенным, служебным элементом повествования, оставаясь важной частью авторского высказывания.
Углубляясь в сферу возможностей написанного на экране слова, Вертов обнаруживал в нем все новые и новые ресурсы. В частности, режиссер не только широко использовал потенции титра, как части ритмической (по сути, стихотворной) структуры возвышенной авторской, речи, но и пытался (не без успеха) сопоставлять/противопоставлять слово и изображение, подчиненные единому поэтическому замыслу. Так, в эпизоде похорон Ленина («Три песни о Ленине») кадры покойного вождя сопровождаются титрами: «Ленин… А молчит… Ленин… А не движется…» И тут же идут кадры людей, пришедших проститься с Лениным. Вертов показывает их и сопровождает траурное шествие титрами: «Массы… Молчат… Массы… Движутся…» Контраст движения и неподвижности, жизни и смерти на фоне единства, порожденного молчаньем, становится основой образного хода, невозможного без участия слова-надписи.