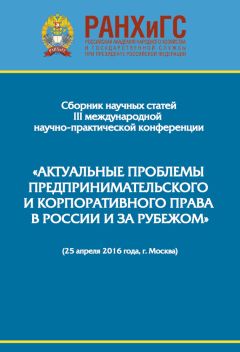Ознакомительная версия.
Второй не менее устойчивой, но также, с нашей точки зрения, неточной традицией толкования ивановского понимания природы символических референтов является утверждение непосредственной связи этих референтов с образами. Собственно говоря, вся приведенная нами аргументация в пользу принципиальной необъектности и языковой необъективируемости символических референтов может быть с аналогичным успехом (или «неуспехом») развернута и против образного толкования ивановских референтов – если, уточним, под образом мыслить некое ментально закрепленное представление объектного и устойчивого свойства, порожденное теми или иными, в основном зрительными, чувственными восприятиями. [50] Конечно, Иванов пользовался образами и, конечно же, не отрицал весомости самого этого понятия в теории языка вообще и в поэзии в особенности, однако, так же, как внешняя событийная канва символической речи, образность относилась им не к сущности символической референции, а к ее формальной акциденции.
Между двумя этими категориями имеется и то сходство, что «образ», как и «событие», был в ивановской концепции понятием с двойным дном. В случае понимания образа в качестве ментально закрепленной объективации чувственного впечатления он не соотносился Ивановым непосредственно с самими символическими референтами, но в случае понимания образа как «посредника» между символическим референтом и его языковым выражением статус этого понятия в рамках ивановской концепции повышался. «Повышение» это, однако, сигнализировало о принципиальном изменении не только в понимании «места» и, соответственно, статуса образа, но и в толковании его имманентной сущности: такой образ теряет свойства статично-объектной или объективирующей цельной семантической единицы и приобретает черты сложносоставной языковой фигуры (аналогично тому, как не имеющий способности к самостоятельной референции изолированный символ приобщается к этой способности в составе цельной символической фигуры речи).
В таком, двоящемся, смысле и следует, видимо, воспринимать разнообразные и даже внешне противоречивые высказывания об образе, свойственные Иванову (принужденному, кстати сказать, к частому употреблению этого понятия в том числе и сложившейся в то время терминологической ситуацией, когда потебнианская терминология возводилась «как бы в атрибут литературной школы символизма» – 4, 646). Так, с одной стороны, одну из самых принципиальных своих статей («К проблеме звукообраза у Пушкина») Иванов заканчивает как бы «антиобразным» афоризмом: «Образами мыслит поэт», – говорили нам; прежде всего он мыслит – звуками» (4, 349). [51] С другой стороны, анализируя позицию В. Шкловского, открытого противника «образного мышления», Иванов «защищает» образ, но эта защита ведется – в соответствии с «двоящимся» смыслом ивановской позиции – по отношению к иному пониманию образа, нежели то, которое в других случаях критикуется. В частности, Иванов благосклонно допускает возможность применения к традиционной сфере образов специфических терминов Шкловского, таких как «поэтический прием», «остранение», «затрудненность» и «продленность» языковой формы в поэзии и др., отмечая, что, с его точки зрения, все это не так уж далеко от символических «синтетических суждений», восходящих к мифу и в этом смысле связанных и с образностью, которая, следовательно, анализируемому автору (то есть Шкловскому) в общем-то совершенно напрасно столь чужда (4, 645–646).
Как видим, в диалоге со Шкловским образность прямо ассоциируется Ивановым не с объектно данной и изолированно воспринимаемой контурностью, а с «длящейся» языковой фигурой, а, следовательно, и с происходящими на ее протяжении необъективируемыми семантическими процессами. Эта связанная с терминологическим разнобоем в литературе двойственность позиции Иванова (принятие образности в круг символических категорий, если она понимается как фигура со сложносоставным семантическим строением, и отказ от образа, если тот понят изолированно-статично) специально оговорена им, хотя и несколько завуалированно, чуть ниже в том же тексте – при выражении своего слегка фрондирующего согласия с необходимостью внести все-таки в «доктрину Потебни полезные коррективы, клонящиеся к освобождению ее от рационалистических примесей». «Так, – мимоходом добавляет Иванов важный в нашем контексте смысловой нюанс, – не без оснований подвергается сомнению объяснительное назначение образа в поэзии…» (4, 646). В данном контексте «объяснительное назначение образа» – это не что иное, как неправомерное, с ивановской точки зрения, помещение изолированно понятого образа в предикативную позицию суждения. Изолированный образ разделяет в ивановской концепции судьбу изолированного символа: самолично они не могут ни референцировать, ни предицировать. На это способны только символические или – как аналог – образные фигуры речи в их целом, то есть высказывания, содержащие скрещивающий различные семантические лучи и тем порождающий референцирующее значение предикативный акт. Излишне, может быть, туманно, но тем не менее в выразительной и изящной форме эта идея относительно образа выражена, хотя и с несколько отличающимся от ивановского направлением движения мысли, П. Рикером: «Прежде чем стать гаснущим восприятием, образ пребывает возникающим значением». [52] Иванов мог бы сказать: прежде чем стать возникающим значением, образ пребывает гаснущим восприятием. Эта «гаснущая» – ментально-чувственная и объектная – образность, как и внешняя событийность, не включается, таким образом, в ивановской концепции в природу символических референтов, которые могут получить в мифе, как уже говорилось, сугубо языковую форму события и, добавим, сугубо же языковую форму образа.
Если теперь ввести другие, столь же весомо маркированные, ивановские смысловые декорации, то можно сказать, что внешняя событийная канва относится вместе с разнообразными и разноприродными объективациями, а значит – и с образностью, к тому самому ЧТО речи, которое всегда умалялось Ивановым в сравнении с ее КАК. В поздних работах есть прямые утверждения, что событийный ряд произведения или «рассказанная поэтом повесть» (даже сюжетная канва Мильтонова «Потерянного Рая») – это только «формальное условие», «лишь материальный субстрат» (3, 666) действительной цели речи – ее КАК.
В разряд овнешняющего «материального субстрата» (или «косной материи») речи отходит, таким образом, по Иванову, почти все, что обычно возводится в современной лингвистике на пьедестал: и лексическая семантика с ее принципом изолирующей объективации; и синтаксическая семантика с ее либо аналитизмом (а значит, в частности, и с метафорической образностью, основанной, как мы видели, на синтаксической взаимообратимости принципиально объективируемых компонентов аналитической речи), либо «механическим» сложением объективированных смыслов, либо идеей фактически изоморфного отражения в речи отношений чувственно и объектно воспринимаемого и так же при этом понимаемого мира; и логическая семантика с ее принципом рациональной систематизации сигнификативной области и пониманием предикации как установления родо-видовых или других по типу логических отношений между семантическими единицами языка. Все это не имеет, по Иванову, прямого сущностного отношения к природе символических референтов. И именно здесь же, в этой «косной» и не способной к самостоятельной референции «горнего» мира семантико-языковой материи, рождаются, по Иванову, и поверхностная сюжетная и ситуативная событийность речи, и ее объектная или объективирующая чувственно-ментальная образность, которые также не мыслятся входящими непосредственно внутрь природы символических референтов.
Что же тогда это за «природа»? Очевидно, что пронизывавшая всю нашу лингвистическую интерпретацию ивановская идея о необъектности символических референтов имеет прямое отношение к тому, что в философии называется «необъектным уровнем реальности». Поскольку это понятие далеко в философии от сколь бы то ни было однозначного понимания, постольку и для нас утверждение о наличии некой связи между символическими ивановскими референтами и «необъектным уровнем реальности» является пока только декларационным тезисом, выполняющим по сути лишь функцию демаркационной линии для ограничения смыслового поля дальнейших рассуждений и предполагающим, конечно, свое постепенное реально-содержательное насыщение.
Известная и фундаментальная для Иванова идея, фактически – постулат, о превалировании КАК над ЧТО несколько запоздало введена нами именно здесь намеренно, так как ее напрашивающееся «столкновение лбами» с не менее фундаментальным ивановским тезисом о принципиальной осуществимости особого, символически-мифологического, референциального прорыва в «высшую реальность» имеет непосредственное отношение и даже решающее в определенном смысле значение для понимания отношения Иванова к онтологической природе символических референтов.
Ознакомительная версия.