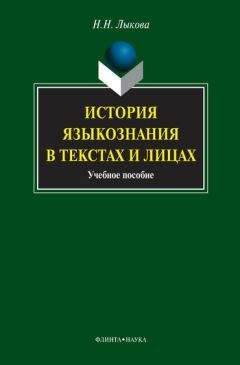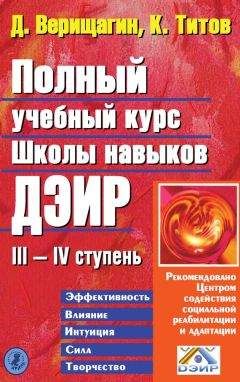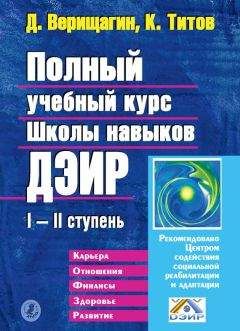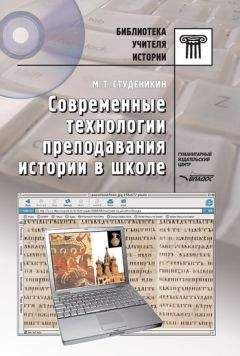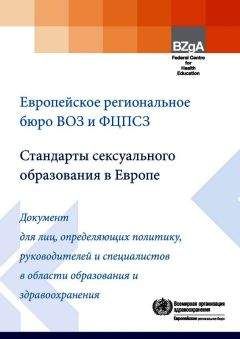Ознакомительная версия.
Таким путем мы приходим к двум нижним уровням анализа – к уровню минимальных сегментных единиц – фонем, то есть уровню фонематическому, и к уровню различительных признаков, которые мы предлагаем назвать меризмами (греч. μέρισμα, -ατος – «отграничение»), то есть к меризматическому уровню. <…> (Бенвенист. Уровни: 436).
В самом деле, осмысленность – это основное условие, которому должна удовлетворять любая единица любого уровня, чтобы приобрести лингвистический статус. Подчеркиваем, единица любого уровня. Фонема получает свой статус только как различитель языковых знаков, а различительный признак в свою очередь – как различитель фонем. Иначе язык не мог бы выполнять свою функцию. <…> (Бенвенист. Уровни: 437).
Если фонема определима, то только как составная часть единицы более высокого уровня – морфемы. Различительная функция фонемы основана на том, что фонема включается в ту или иную определенную единицу, которая только в силу этого относится к высшему уровню.
Подчеркнем, языковая единица является таковой, только если ее можно идентифицировать в составе единицы более высокого уровня. Приемы дистрибутивного анализа не выявляют этого типа отношений между различными уровнями. <…> (Бенвенист. Уровни: 437).
Между элементами одного уровня имеют место дистрибутивные отношения, между элементами разных уровней – интегративные. <…> (Бенвенист. Уровни: 441).
Форма и значение должны определяться друг через друга, и повсюду в языке их членение совместно. Их отношение, как нам представляется, заключено в самой структуре уровней и в структуре соответствующих функций, которые мы назвали «конститутивной» и «интегративной».
Когда мы сводим языковую единицу к ее составляющим, то тем самым мы сводим ее к ее формальным элементам. Как было сказано выше, разложение одной языковой единицы не приводит автоматически к установлению других единиц. Даже в единице самого высшего уровня, в предложении, разложение на составляющие приводит к выявлению только формальной структуры, как это происходит всякий раз, когда некоторое целое разлагается на части. <…>
Итак, производя разложение языковых единиц, мы выделяем из них лишь формальные конститутивные элементы.
Что же нужно для того, чтобы признать эти формальные конституенты единицами определенного уровня? Необходимо провести обратную операцию и проверить, будут ли конституенты выполнять функцию интегрантов на более высоком уровне. Суть дела заключается именно в этом: разложение языковых единиц дает нам их формальное строение; интеграция же дает значимые единицы. <…> (Бенвенист. Уровни: 443).
<…> предложение не может быть интегрантом для единиц других типов. Это объясняется прежде всего той особенностью, какая присуща только предложению и отличает его от всех других единиц, т. е. предикативностью. Все другие свойства предложения являются вторичными по отношению к этой особенности. <…> «Синтаксис» предложения является только грамматическим кодом, который обеспечивает правильное размещение его членов. <…> единственным признаком предложения является его предикативный характер. Предложение мы отнесем к категорематическому уровню (греч. kategorema, лат. praedicatum). <…> (Бенвенист. Уровни: 446).
<…> нужно признать, что категорематический уровень включает только одну форму языковых единиц – предложение. Оно не составляет класса различимых единиц, а поэтому не может входить составной частью в единицу более высокого уровня. Предложение может только предшествовать какому-нибудь другому предложению или следовать за ним, находясь с ними в отношении последовательности. Группа предложений не образует единицы высшего уровня по отношению к предложению. Языкового уровня, расположенного выше категорематического уровня, не существует.
Ввиду того, что предложение не образует формального класса противопоставленных единиц, которые были бы потенциальными членами более высокого уровня, как это свойственно фонемам или морфемам, оно принципиально отлично от других языковых единиц. Сущность этого различия заключается в том, что предложение содержит знаки, но само не является знаком.
Коль скоро мы это признаем, станет явной противоположность между сочетаниями знаков, которые мы встречали на низших уровнях, и единицами рассматриваемого уровня.
Фонемы, морфемы, слова (лексемы) могут быть пересчитаны. Их число конечно. Число предложений бесконечно. <…>
Предложение – образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (le discours). <…> (Бенвенист. Уровни: 447).
Предложение принадлежит речи. Именно так его и можно определить: предложение есть единица речи. Подтверждение этому состоит в том, что предложению присущи определенные модальности. Повсеместно признано, что существуют предложения утвердительные, вопросительные, повелительные, отличающиеся друг от друга специфическими чертами синтаксиса и грамматики, но одинаково основанные на предикации. Эти три модальности отражают три основные позиции говорящего, который воздействует на собеседника своей речью; говорящий либо хочет передать собеседнику элемент знания, либо получить от него информацию, либо приказать что-то сделать. Именно эти три связанные с общением функции речи запечатлены в трех формах модальности предложения, соответствуя каждая одной из позиций говорящего. <…> (Бенвенист. Уровни: 448).
Категории мысли и категории языка (1966)
Применения языка, на котором мы говорим, столь многообразны, что одно их перечисление вылилось бы в обширный список всех сфер деятельности, к каким только может быть причастен человеческий разум. Однако при всем их разнообразии эти применения имеют два общих свойства. Одно заключается в том, что сам факт языка при этом остается, как правило, неосознанным; за исключением случая собственно лингвистических исследований, мы очень слабо отдаем себе отчет в действиях, выполняемых нами в процессе говорения. Другое свойство заключается в том, что мыслительные операции независимо от того, носят ли они абстрактный или конкретный характер, всегда получают выражение в языке. Мы можем сказать всё, что угодно, и сказать это так, как нам хочется. Отсюда и проистекает то широко распространенное и так же неосознанное, как и всё, что связано с языком, убеждение, будто процесс мышления и речь – это два различных в самой основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свои области и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли. <…>
Конечно, язык, когда он проявляется в речи, используется для передачи «того, что мы хотим сказать». Однако явление, которое мы называем «то, что мы хотим сказать», или «то, что у нас на уме», или «наша мысль», или каким-нибудь другим именем, – это явление есть содержание мысли; его весьма трудно определить как некую самостоятельную сущность, не прибегая к терминам «намерение» или «психическая структура», и т. п. Это содержание приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке, который как бы служит формой для отливки любого возможного выражения; оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним. Язык же представляет собой систему и единое целое. Он организуется как упорядоченный набор различимых и служащих различению «знаков», которые обладают свойством разлагаться на единицы низшего порядка и соединяться в единицы более сложные. Эта большая структура, включающая в себя меньшие структуры нескольких уровней, и придает форму содержанию мысли. Чтобы это содержание могло быть передано, оно должно быть распределено между морфемами определенных типов, расположенными в определенном порядке, и т. д. Короче, это содержание должно пройти через язык, обретя в нем определенные рамки. В противном случае мысль если и не превращается в ничто, то сводится к чему-то столь неопределенному и недифференцированному, что у нас нет никакой возможности воспринять ее как «содержание», отличное от той формы, которую придает ей язык. Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику. <…>
Целиком признавая, что мысль может восприниматься, только будучи оформленной и актуализованной в языке, следует поставить вопрос: есть ли у нас основания признать за мышлением какие-либо особые свойства, которые были бы присущи только ему и которые ничем не были бы обязаны языковому выражению? <…> (Бенвенист. Категории: 104–105).
Ознакомительная версия.