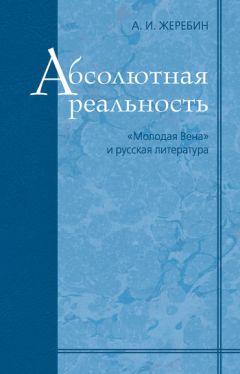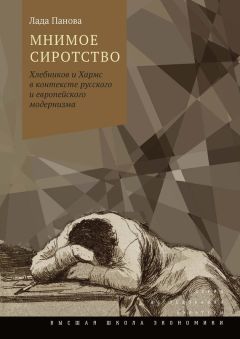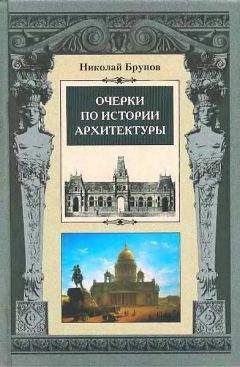Ознакомительная версия.
В своей декадентской версии импрессионизм раскрывает тему утраты ценностей: мир больше не объективное целое, он распался на бессвязные факты и мелькающие мгновения, которые существуют лишь до тех пор, пока воспринимаются чувствами; его символами выступают игра теней, пляска призраков, карты, маски, театр. «Импрессионистический человек», творец и герой этого мира иллюзий, презирает общество и мораль и не знает другого закона, кроме личной воли и личного счастья. Свободный и одинокий, он исповедует культ своего «Я», только себя самого мнит достойным любви и хочет бездумно скользить по золотым волнам жизни, срывая цветы чувственных и интеллектуальных наслаждений.[41]
Но когда разрушается вера в объективный мир, исчезает и автономный субъект; согласно Маху, он такая же фикция, как и призрачный мир воспринимаемых им объектов. Вот почему homme libre импрессионистической культуры – это актер, не верящий в убедительность своей роли. За эйфорическими призывами импрессиониста «погрузиться в лазоревые сны раскрепощенных нервов», где «нет истины, а только красота»[42], неизменно ощутим тайный страх метафизической пустоты, придающий импрессионистическому чувству жизни тот оттенок скептической резиньяции, который так ясно выразили Гофмансталь в своем стихотворном «Прологе»[43], и Шницлер в «Парацельсе» (Paracelsus, 1898).[44]
Именно Шницлер и представляет нигилистическую линию в литературе венского импрессионизма с наибольшей последовательностью. Путь к свободе, который выбирают его герои, выстраивается как серия болезненных разрывов и разоблачений. Он усеян невинными жертвами и невосполнимыми потерями, ведет к одиночеству, разочарованию и смерти (пьесы «Любовная забава», 1895, «Одиноким путем», 1903, «Бескрайняя страна», 1911).
Болезнь современной души, которую Шницлер не устает изображать в своих пьесах и новеллах, – это экзистенциальный страх, порожденный отчуждением личности, разрывом между сознанием и реальностью. Преломляясь в сознании шницлеровских персонажей, реальность обессмысливается и от этого ускользает, не дается ни чувствам, ни рассудку, готова в любой момент обернуться призрачной фантасмагорией. Изгнанный из реальности, герой Шницлера словно разучился жить; он блуждает среди привычных фактов и отношений как на чужбине, пугаясь своей отрешенности, не узнавая самых простых вещей. Дневная действительность еще не вполне подчинена у Шницлера абсурдной логике ночных сновидений, как это происходит в произведениях Кафки, но ясность очертаний она уже утратила, уже начала исчезать в сумерках, и, если во тьме кафкианского абсурда всегда мерцает огонек религиозной надежды, то серые рассветы Шницлера, кажется, исключают возможность спасения.
Шницлер не верит в апокалипсическую диалектику утраты и обретения, согласно которой смерть искупляет новую жизнь, распад чувственно-материальной действительности освобождает место для абсолютной реальности, кризис автономного субъекта является условием рождения симфонической личности-микрокосма.
С признанием этой диалектики связана вторая версия импрессионизма, в согласии с которой игру наших ощущений, кажущихся бессвязными и мимолетными, следует представлять себе как единый орнамент жизни, где каждый «психофизический» элемент, причудливо переплетаясь с другими, участвует в создании величественной гармонии целого и проникнут его общим смыслом.
В литературно-критической эссеистике Бара к импрессионизму отнесены самые разные авторы и произведения – лирические драмы Метерлинка и Гофмансталя, скульптуры Родена и картины Климта, японские гравюры на выставке «Сецессиона». Признак, который их объединяет, – это умение художника создавать необъяснимые связи (cohésion indéfinissable)[45], «видеть в части целое или в одном все»[46], изображать явления чувственно-материального мира так, чтобы возникало ощущение той тайны, которую Гофмансталь назвал «тайной сцепленности всего земного»[47]. Махистское искусство импрессионизма, как понимали его в Вене, настаивает на отмене границ, которыми изрезало Вселенную рационалистическое сознание. Импрессионизм там, где вещи выведены их из их изолированности, где восстанавливается единство и принципиальное тождество всего существующего, и человеческое «Я» включается во всемирное братство всех вещей.
Таков, в частности, импрессионизм Петера Альтенберга, у которого импрессионистический принцип дематериализации мира в призме субъективных впечатлений интерпретируется на основе махистской философии тождества внешнего и внутреннего, субъекта и объекта, сознания и бытия. Душа, проповедует Альтенберг, должна «расширить свою территорию»[48], разрастись до масштабов Вселенной. Средством этого расширения является, по его убеждению, поэзия. Поэт – это «Робеспьер души»[49], но его оружие – не революционная риторика, а магический взгляд[50]. Называя первый сборник своих лирических миниатюр «Как я это вижу», Альтенберг подчеркивает, что под ударением должно стоять в этом названии не слово «Я», а слово «вижу»[51]. Ценность зрительных ощущений определяется для Альтенберга не точностью отражения внешнего мира, а силой его творческого преображения, при котором субъект исчезает, растворяется в объекте. По лучу магического взгляда душа поэта словно перетекает в мир, пропитывает плоть мира как влага губку[52], и когда она в мире воплотится, мир станет святой плотью и будет спасен.
Грядущее «царство» воплощенной души и одухотворенной плоти предполагает преодоление principium individuationis, и одним из самых суггестивных символов этого преодоления выступает у Альтенберга танец: «„Я есмь“ и „Я танцую“ – эти миры абсолютно противоположны», – пишет Альтенберг[53], ибо танцующий отрекается от обособленности своего «Я», по выражению Ницше-Заратустры, «вытанцовывает себя» из границ своей индивидуальности[54]. Такая трактовка танца прямо противоположна той, которая дана в пьесе Шницлера «Хоровод» (Der Reigen, 1900), где эротическая энергия жизни порождает бессмысленное движение по замкнутому кругу и не преодолевает, а организует лживый мир социальной действительности.
Для Альтенберга человек, вовлеченный в дионисийский танец, обретает свободу. Путь к свободе – это не одинокий путь к смерти, как у Шницлера; смерть означает переход через инобытие и условие вхождения в истинную жизнь. С особым пафосом раскрывает эту тему философ и эссеист Густав Ландауэр (Gustav Landauer, 1870—1919), пламенный почитатель Фрица Маутнера (Fritz Mauthner, 1849—1923), чья фундаментальная «Критика языка» (Beitràge zu einer Kritik der Sprache, 1901—1902) оказала в одном ряду с учением Маха значительное влияние на «Молодую Вену». В философии Маутнера слову – лживому языку мысли и инструменту отчуждения мира, противостоит молчание – язык мистического чувства. Заостряя мысль своего учителя, Ландауэр пишет: «Есть только один способ избавиться от чувства одиночества и богооставленности: принять мир и принести в жертву ему свое личное „Я“. Но только затем, чтобы почувствовать, что мое Я – это и есть весь мир, в котором оно растворено. Обособившееся Я убивает себя, чтобы дать жизнь Я всемирному».[55]
Именно этот путь – от гносеологического скептицизма и отчаяния к мистическим «эпифаниям» – проходит герой новеллы Гофмансталя «Письмо» (Ein Brief, 1902) лорд Чэндос, поэт, испытавший отвращение к лживому слову и погрузившийся в молчание. Новелла – тонкая стилизация эпистолярного стиля елизаветинской эпохи – представляет исповедь умолкнувшего поэта, обращенную к его старшему другу и наставнику Бэкону Веруламскому. Гофмансталь прощается со своим героем на пороге авангардизма, в тот момент, когда лорд Чэндос ощущает приближение новых «волшебных слов», о которых он говорит, что они, если бы оформились в его сознании, могли бы «одолеть тех херувимов, в которых он не верует»[56]. Это, несомненно, ключевое место «Письма». Речь идет о библейских херувимах с огненными мечами, которые охраняют врата Рая, препятствуя возвращению изгнанного человечества к древу жизни. Неверие в них лорда Чэндоса имеет принципиальное значение: он не верит в грехопадение, в его окончательность, и в недоступность райского сада. Маутнер был убежден, что единство души и плоти, Бога и мира может быть пережито только в безмолвии; вторжение слов неизбежно разрушает мистическое переживание. История лорда Чэндоса это убеждение не столько подтверждает, сколько ставит под сомнение. На последней глубине падения падший переживает блаженные мгновения сверхчувственной интуиции. В его измученном немотой сознании зарождаются неведомые слова нового апофатического языка, на котором говорят не с людьми, а с Богом. Вера в слово сменяется неверием, но кризис безмолвия нужен для того, чтобы родилась другая, истинно священная речь.
Ознакомительная версия.