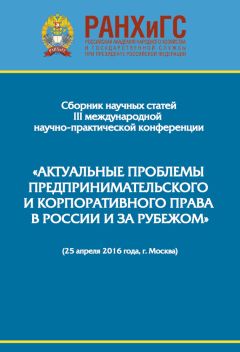Ознакомительная версия.
Итак, ивановский символ – принципиально не имя, [24] но это только «половинка» лингвистического смысла проблемы символа. И в истории становления ивановского типа символизма, и в сложившейся традиции его понимания есть еще одна остающаяся «темной» сторона. Имеется в виду достаточно загадочная история с толкованием ивановского символа как метафоры. Особую роль в этой загадочной истории сыграл А. Белый.
Сам Белый определенно и недвусмысленно высказывал свое понимание символа как словесной метафоры, [25] что в принципе соответствует одной из самых устойчивых и до сих пор обрабатываемых традиций толкования символа. Загадочный же момент состоит при этом в том, что Белый многократно и без тени сомнения возводил это свое понимание именно к Иванову – как к своего рода создателю и «обоснователю» обновленной и пленившей его модификации самой идеи толкования символа как метафоры. А это, на наш взгляд, достаточно спорно – аналогично тому, как спорным оказалось и распространенное мнение об отождествлении ивановского символа с именем. Все это тем более интересно, что символ, действительно, в определенном смысле «помещался» Ивановым между именем и метафорой. Стремление отождествить символ с одним из этих «соседей» имеет своей пресуппозицией отрицание (или во всяком случае – сомнение) наличия у символа и связанного с ним мифа статуса собственно языкового явления, обладающего в том числе и самостоятельной референцирующей силой. В ивановской же концепции такого рода сомнений и колебаний, с нашей точки зрения, нет.
Взглянем на фактическую сторону ситуации. Постоянно споря с Ивановым, порой яростно, по многоразличным другим вопросам, Белый даже в 1928 году, потерявший уже не только всякую связь с Ивановым, но, видимо, и интерес к ней, издавший уже не только статью «Вячеслав Иванов», но и ее ужесточенно переработанный вариант «Сирин ученого варварства», [26] тем не менее настойчиво и по-своему благодарно утверждает (в итоговой работе «Почему я стал символистом…») в качестве твердой и неизменной константы своей памяти, что понимание символа как языковой метафоры «заимствовано» им «из заявлений Вячеслава Иванова» и что именно этот тезис является одним из углублений лингвистической базы символизма. [27]
Загадка состоит в том, что в текстах Иванова невозможно отыскать прямых утверждений о тождестве символа с метафорой. Конечно, такого рода утверждения (и возможно в достаточно сильной форме, особенно в начале 1890-х годов – ведь нечто аналогичное писал о метафоре, хотя и с несколько другим знаком, Ницше) скорее всего действительно высказывались Ивановым в многочисленных устных обсуждениях темы, но и при таком уточнении мы не можем игнорировать смысловую волю Иванова, так и не переведшего эту, возможно, словесно и опробовавшуюся им идею, непосредственно в свои тексты (вероятно, в связи с все той же стратегией неупоминания).
А между тем вопрос столь же принципиален, как и в случае с именем. Естественно, любая ассоциация символа с метафорой предполагает именно и только языковой аспект символического мировоззрения и именно и только словесную выраженность символа, а Иванов в интересующих нас контекстах, действительно, акцентировал, как мы видели, языковую сторону универсальной проблемы символа. Что же могло значить, в так акцентированных координатах, возможное ивановское понимание символа как метафоры? Это должно было бы означать, что словесный символ всегда по своей языковой структуре обязательно есть метафора (в метафизической перспективе это ведет к включению в число константных постулатов символизма того глобального тезиса, что любые, в том числе и несловесные по природе, символы, воплощаясь в языке, обязательно принимают вид метафор; ср. аналогичный по логике образования, но противоположный по смыслу фундаментальный имяславский тезис о воплощении всего символического в языке в виде имен).
Что, однако, представляет собой метафора? Теории метафоры до сих пор лишь множатся, будучи весьма далеки от унификации. В «Магии слов» сам Белый понимал языковое тождество символа-метафоры как «соединение двух предметов в одном – новом, третьем». [28] Эта метафора-символ затем получает самостоятельное бытие, оживает и действует, как, например, белый рог месяца, который становится «белым рогом некоего мифического существа». Так символ, по Белому, становится мифом. Конечно, продолжает Белый, я не утверждаю прямого существования мифического животного, «но в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование некоторой реальности, символом или отображением которой является метафорический образ, мною созданный» (там же).
Интересно, что и эту константу своего собственного символического мировоззрения (идею взаимосвязи символа-метафоры с мифом) Белый непосредственно возводил к Иванову. В устах Белого этот тезис звучит в работе «Почему я стал символистом…» как «единство восстания языковой метафоры и мифа, где миф есть религиозное содержание языковой формы, а эта последняя есть реализация мифа в языке (спайка с В. Ивановым)». [29]
Казалось бы, сходства с ивановским пониманием мифа очевидны. Идеи Иванова и Белого, действительно, развивались параллельно, но тем не менее что-то содержательно существенное мешало им сойтись и реально сблизиться друг с другом. У Белого язык как бы первичен по отношению к символу и мифу, которые фактически мыслятся порожденными за счет аналитических сил языка. Иванов же, всегда пестовавший в языке синтетические силы, всегда же «подозревал» Белого в излишней до неправомерности тяге к аналитизму: «…нельзя не видеть, – пишет Иванов в той же рецензии на новейшие разыскания в области стиха, в которой его внимание среди прочего привлекли и внутренние причины особого интереса Белого к противопоставлению Тютчева и Пушкина, – что Андрей Белый, выставляя образцом Пушкина (для каких только целей не кричали нам: „назад к Пушкину“ [30] ), ищет как бы обнажить иррациональные корни поэзии, исторгнуть их из обители Матери-земли на солнечный свет логического сознания, проникнув их «логосом» (или логикой? [31] ), укротить дионисийские энергии музыкально экстатического прорыва за грань, обуздать в слове первородный грех (не чадородную ли силу?) «козловидного Пана»» (4, 638). Не случайно, по-видимому, что и самое насыщенное по просматриваемому архетипическому дисбалансу ивановское упоминание имяславия появилось именно в этой, спорящей с Белым, статье: при всем очевидном различии позиций имяславцев и Белого у них была для Иванова некая общая, оспариваемая им черта – расширение сферы компетенции в общем-то традиционных языковых процессов (будь то именование или семантический аналитизм) за некую границу, мыслимую самим Ивановым как «заповедная» для этих процессов и «поддающаяся» лишь особым, нетрадиционно понимаемым, силам языка.
О сущностном различии, а не близости позиций Иванова и Белого в этом вопросе свидетельствуют, на наш взгляд, и практически все имеющиеся в ивановских текстах, хотя чаще всего косвенные и, как всегда, несколько завуалированные, высказывания о метафоре в ее связи с символом (во многих из которых, кстати, критически упоминается позиция Белого – см., например, 4, 636–637; 4, 164–165). Наиболее выразительным в этом смысле является, вероятно, высказывание в «Мыслях о символизме»: «Но если символизм не умер, то как он вырос!.. Еще недавно за символизм принимали многие прием поэтической изобразительности, родственный импрессионизму, формально же могущий быть занесенным в отдел стилистики о тропах и фигурах. После определения метафоры (мне кажется, что я читаю какой-то вполне осуществимый, хотя и не осуществленный, модный учебник теории словесности), – под параграфом о метафоре воображается мне примечание для школьников: „Если метафора заключается не в одном определенном речении, но развита в целое стихотворение, то такое стихотворение принято называть символическим“». [32]
Предварительно можно следующим образом наметить причины так и не состоявшегося пересечения на первый взгляд сходным образом развивавшихся идей Иванова и Белого о символе и метафоре. Аналитической установке Белого Иванов почти везде противопоставлял синтетическую идею (напомним, что в число четырех константных моментов в ивановском определении мифа входит и всегда сопутствующая этому определению на том или ином текстовом расстоянии критика чистого или приоритетно понимаемого аналитизма). Отождествленный с метафорой символ Белого уже на внешнем уровне принципиально многосоставен, как и всякая языковая метафора, ивановский символ – чаще всего на внешнем уровне лексически односоставен, хотя, как ниже мы убедимся, и ивановский символ имеет в своих глубинных пластах многокомпонентную структуру (так и не совпавшую, однако, с компонентами метафоры). С другой стороны, символ-метафора Белого
самолично осуществляет референцию к некоему объективируемому «третьему», к которому затем добавляются мифологические предикаты разной смысловой наполненности (например, олицетворяющие предикаты); ивановский же символ, несмотря на свое тяготение к лексическому полюсу и даже как бы «вопреки» ему, не обладает способностью к самостоятельной, вне мифа осуществляемой, референции. В целом, позиция Белого (новатора и модерниста, по всеобщей оценке) более традиционна как в понимании субъекта (а значит и референции), так и в понимании предиката суждения. Действительный же «консерватор» Иванов стремился (как мы увидим ниже при попытке лингвистической интерпретации его идей) по-новому проблематизировать, или, во всяком случае, «расшатать», традиционное понимание и способов референции, и самого предикативного акта. Непосредственно лингвистическая интерпретация обновленного ивановского понимания референцирующих и предицирующих механизмов языка, к которой мы и переходим, позволяет точнее понять и конкретно языковые, и – в перспективе – метафизические причины ивановского отказа отождествлять символ как с именем в его имяславском понимании, так и с метафорой.
Ознакомительная версия.