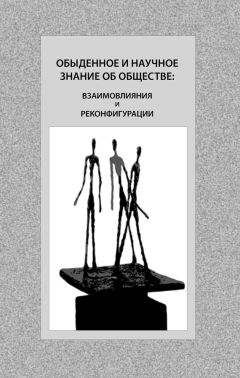Вместе с тем, по данным опросов ВЦИОМ середины и конца сентября 1998 г., до 80 % образованного слоя высказывается сегодня за установление государственного контроля над ценами, от 36 % до 43 % предпочитает «ограниченный набор товаров по доступной всем цене, очереди и карточки» (за «обилие товаров, даже по ценам для многих недоступным» — 30–39 % этого контингента). От 55 % до 61 % специалистов и людей с высшим образованием считают, что Запад стремится сейчас не «стабилизировать ситуацию в России» (эту последнюю точку зрения поддерживают лишь 10–12 % образованных), а подчинить себе Россию, «обеспечить контроль над российской политикой и экономикой». Примерно равные по величине подгруппы специалистов с высшим образованием (по 16–17 %) поддерживают «коммунистов» и «демократов», самая большая доля, по сравнению с другими группами (45 %), не симпатизирует политикам ни одного из существующих направлений. Равные по величине подгруппы респондентов с высшим образованием разделяют сегодня противоположные точки зрения на роль КПРФ в нынешней и завтрашней России: 43 % считают, что коммунисты, если они получат власть, приложат все силы, чтобы вернуть страну к доперестроечным порядкам, национализировать банки и т. д., 44 % полагают, что Г. Зюганов и его сторонники будут при этом действовать «в рамках нынешних законов», не посягая на частную собственность и гражданские свободы (опрос ВЦИОМ в конце октября 1998 г.). Представители образованного сословия раздвоены и напуганы, возбуждены и вместе с тем апатичны. Внутренняя расколотость, неуверенность в себе, чувство оставленных без государственного попечения делает их податливыми к популистской риторике, демагогии коммунистов, уравнительным стереотипам.
Характерно и другое. Именно у образованных россиян в последние три-четыре года крайне низок престиж их основного символического капитала — образования, слаба (кроме самых молодых) ориентация на успех в жизни и в профессии. При этом среди путей к успеху образованные респонденты чаще всех других групп называют не «образование», которым, казалось бы, располагают и в целом довольны, а «власть», которой они не имеют, которую, по их оценкам, не уважают и которой не верят. У слоя отсутствует энергия группового действия, достижения общих целей. Ослабла внутригрупповая сплоченность, чувство принадлежности к социально значимому, авторитетному сообществу людей.
В сравнении с другими группами нынешнего российского общества интеллигенция за 1990-е гг. в наибольшей степени потеряла свое влияние. Оценивая реальное воздействие образованных, квалифицированных людей на сегодняшнюю жизнь России (опрос ВЦИОМ 1997 г. «Власть»), респонденты дают интеллигенции, по сравнению с банкирами и государственными чиновниками, журналистами и деятелями церкви, наиболее низкую оценку (ниже — только роль профсоюзов), тогда как оценка ее желаемого влияния, в особенности — у самих членов группы, наиболее высока, и разрыв между двумя этими осями сегодня предельно резок. Перед нами — итоговая фаза социальных и культурных процессов, шедших давно, но резко обострившихся за последнее время.
Роль интеллигента и значение классики
Собственно «свободные профессии» (и роль «свободного художника») — а именно в этих рамках складывалось самосознание дореволюционной российской интеллигенции — в системе социальной стратификации зрелого советского общества не значились. Социальное положение образованных слоев в пореволюционной России («интеллигенции государственных служащих») связано с их ролью в процессах централизованной и форсированной модернизации страны — местом в индустриализации, образовательной и «культурной» революции, формировании наднациональной общности («советского народа»), распространении городских ценностей, стандартов современной цивилизации. Укрепившееся ко второй половине 1930-х гг. государство «реабилитировало» и востребовало интеллигентов именно как слой относительно квалифицированных исполнителей модернизационной программы, агентов мобилизации масс на ее осуществление. Интеллигенция выступила средним звеном в системе управления, стала посредником между высшими уровнями властной иерархии и населением.
При этом русская литературная, художественная, музыкальная классика, вместе с «классиками народов СССР» в трактовках интеллигенции, поддерживала идеологическую легенду власти — как законной наследницы «лучших сторон» отечественного прошлого и мировой истории. Вместе с тем классика воплощала «всеобщие» и «вечные» ценности, к которым должно было приобщаться население страны. Обучение тому и другому на массовом уровне осуществляла школа. Соответственно, с середины 1930-х отечественную литературу наряду с отечественной историей включили в официальную программу средних школ. И как разные подгруппы и фракции образованного слоя (государственные служащие, «внутренняя эмиграция», либеральное диссидентство, почвенническая оппозиция) боролись впоследствии за «свою» классику, собственную ее трактовку, так боролись они и за «свою» школу, собственную «программу» обучения.
Статус и определение интеллигента в советских условиях с самого начала были двойственными — след его, по выражению Ю. Левады, «фантомного существования»[327]. Интеллигенция как бы имела двойное происхождение: одно — по линии декретировавшей ее власти, другое — по линии усвоенной ею культуры. Двойственность самоидентификации, конфликт между положением и предназначением, наследием и функцией, идеями и интересами переносились интеллигентом внутрь понимания и истолкования культуры. Этим ей задавался нормативный барьер интерпретации и оценки, но воспринимался он уже как свойство «самого текста» — «прогрессивность» и «реакционность» классики, ее оставшиеся в прошлом «заблуждения» и сохраняющие актуальность «художественные находки». Интеллигенция наделила классику значением аллегории, спроецировав на нее при этом двойственность, промежуточность своего существования, фактически перенеся на историю аллегоричность собственных трактовок культуры. Для интеллигентского видения аллегорично и настоящее (оно значимо лишь как отсылка к прошлому, его повторение), и прошлое (оно сведено до совокупности аллюзий на настоящее и должно быть дешифровано с помощью техники «двойного прочтения»). Область собственно настоящего как бы не принадлежит такому сознанию: эта сфера занята «обобщенным другим», она принадлежит фигурам власти, и поведение в ее рамках диктуется интересами власти (для более поздних поколений, периода уже стагнации и распада советской системы — это сфера, скомпрометированная властью и официальной идеологией, а потому неважная и неинтересная).
Так особое отношение к классике вошло в определение интеллигента, стало одной из основ социального статуса интеллигенции. Для менее образованных групп и слоев трансформируемого общества, которые начинали ориентироваться в новых условиях на образцы и стиль поведения интеллигента, классика выступала синонимом книжной культуры и культуры как таковой, символом всего городского, более цивилизованного образа жизни, делалась составной частью престижной и — в определенных временных границах, в 1930–1960-е гг. — привлекательной роли «культурного человека». Именно на протяжении этих десятилетий в стране разворачивалась образовательная революция. Интеллигент был ее олицетворением, а 1950–1960-е гг. — пиком социальной значимости и авторитетности всего образованного слоя.
В целом советская общественная система, вместе с ее моделью развития, институтами индоктринации, слоем интеллигенции, к 1980-м годам исчерпала возможности самосохранения (не говоря о росте). Разрыв в уровнях образования между интеллигенцией и массой сократился, среднее образование стало всеобщим. Выявилось и скромное место классики в жизни «самой читающей страны в мире». В 1980-е гг. книги дореволюционных авторов присутствовали лишь в одной из каждых четырех семейных библиотек. Сверхзначимые имена прошлого были авторитетны прежде всего для «новых» собирателей книг, которые и стремились тогда приобрести дефицитные собрания сочинений. Другую группу потребителей классики составляли учащиеся — дети этих же новобранцев книжной культуры.
В 1990-е гг. классическая литература значительно уступала по популярности боевикам и детективам, любовным романам, исторической прозе и мемуаристике. При этом в кругу «самых выдающихся писателей XX века» читатели называют сегодня (данные всероссийского опроса ВЦИОМ в мае 1998 г., опрошено 1600 человек) не только Шолохова и Солженицына, Булгакова и Льва Толстого, но и Дж. Х. Чейза и Агату Кристи, Валентина Пикуля и Александру Маринину. В 1992–1998 гг. год за годом сокращалась значимость, сужался круг обращения именно тех образцов, на которых десятилетиями основывалось самопонимание и воспроизводство социальной роли интеллигента, самоутверждение интеллигенции в обществе. Даже образованные россияне стали меньше любить (перестали выделять для себя как значимую) какую бы то ни было музыку, кроме общепризнанной и постоянно транслируемой радио и телевидением эстрадной, отчасти — народной; заметно сократились доли приверженцев симфонической и оперной музыки, оперетты и романса. Именно среди образованных респондентов больше всего выросла доля тех, кто по телевизору предпочитает сегодня смотреть кинобоевики, комедии и особенно — «старые ленты».