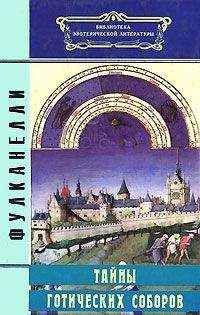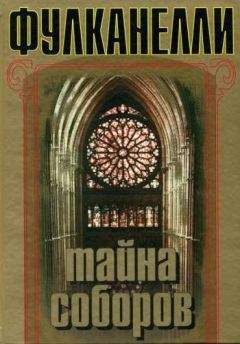Итак, «непроработанная травма», но другой природы. Это травма того радикально нового отношения к человеку, в котором война была пусть и значимым, но только эпизодом. Это травма ГУЛАГа как синонима советской системы. Травма, которую миф о войне должен был скрыть.
«Мирная жизнь» ленинско-сталинских репрессий ретроспективно была противопоставлена «ужасам войны»[126]. Кто из нас, увидев кадры мирного летнего утра в довоенном антураже на экране, хоть на минуту усомнится в том, что это — фильм о войне? Но во скольких семьях ночью, накануне этого самого «мирного июньского утра», — или в ночи предшествующих 20 лет советской власти и последующих 10 — не «фашистские захватчики», а соотечественники арестовали, выслали, убили ни в чем не повинных людей? В моей семье этой самой ночью арестовали деда, а потом в квартире, где остались его жена — моя бабушка и маленькая дочка — моя мама, всю ночь шел обыск. Могли ли соседи не догадываться, почему в квартире директора школы среди ночи не гаснет свет и раздается грохот летящих на пол книг?
Идея противопоставления «мирного времени военному» и была главной задачей мифа, который позволял скрыть и утопить в войне все страдания и ужасы мирного советского времени. К началу войны в «мирной жизни» советского общества накопился огромный «экстремальный» опыт, который нуждался в выражении, но не мог быть высказан[127]. Миф о войне канализировал в «войну» всю скорбь и «внесистемность» «мирного времени», наконец позволив, по словам Шостаковича, людям «скорбеть и плакать, когда хотели». Миф должен был противопоставить придуманную «мирную повседневность» реальным ужасам войны, и в этом состояла его важнейшая задача. Миф о войне был призван скрыть истинную причину трагедии, которую переживали люди под именем советской власти.
Ибо миф о войне — это заградительный миф. Он возник как миф-заградитель Гулага. Военный опыт действительно был «главной эмоциональной ценностью», которую не только «“новые советские руководители” могли разделить с большинством людей своего поколения»[128], но которая позволяла также переназвать, скрыть и вытеснить память о ничем не оправданных страданиях жертв советской системы, уравняв тех, кто сажал, и тех, кто сидел. «Плавильный котел» мифа о войне был призван объединить разорванное террором общество против общего врага и превратить сокрытие преступления в подлинную основу «новой общности людей — советского народа». Вражеское вторжение помогало легитимизировать террор — реальный внешний враг позволял задним числом оправдать репрессии, представив их как превентивную борьбу с агрессией.
Главная функция мифа о войне, которую он продолжает успешно выполнять и по сей день, — вселять в души наших соотечественников непоколебимую уверенность в том, что ГУЛАГ — всего лишь незначительный эпизод, иногда досадно торчащий из-за могучей спины «воина-освободителя».
У заградительного мифа о Великой Отечественной существовала еще одна сверхзадача. Она состояла в том, чтобы представить «чужой» фашизм в качестве абсолютного зла, эталона злодейства. Например, сказать в годы перестройки «коммунисты хуже фашистов» было сильной формулой отрицания советской власти. Но такое определение лишь подчеркивало, что эталоном абсолютного зла оставался не коммунизм, а фашизм.
Показательно, что российских авторов сборника волнует в первую очередь память советских жертв войны — военнопленных, женщин, солдат — и отражение их воспоминаний в сознании наших современников[129]. Напротив, в статьях немецких авторов память немцев о войне — это память о Холокосте, неотделимая от вопроса об ответственности современных немцев перед человечеством за содеянное. Конечно, формально говоря, сборник был посвящен памяти о войне, а не советскому террору или геноциду против еврейского народа. Но ведь и перед немецкими авторами сборника не стояла задача говорить об Аушвице. Просто в немецком дискурсе эти темы связаны столь же неразрывно, как в российском — решительно размежеваны.
Следует особо подчеркнуть, что и российские, и немецкие соредакторы сборника видели важную задачу спецномера о войне в том, чтобы показать, что война и ее значение не могут быть рассмотрены вне контекста советского террора, о чем прямо говорится в редакционном введении[130]. Но редакторам приходится «работать с теми писателями, которые есть», и поэтому сравнение немецкой и российской части выглядит весьма показательно: «у них», немцев, речь все время идет об Аушвице, а «у нас» — преимущественно об армии, о военнопленных, о жертвах среди гражданского населения...
Заградительный миф встает на пути размышлений об ответственности за преступное прошлое, пуская в текст российских исследователей только память о страшной и кровавой, но оправданной патриотической жертве. Он мешает российским авторам задуматься о том, почему применительно к Германии война неотделима от осуждения преступного режима, а применительно к СССР вытесняет всякую мысль о природе общества, в котором жил, сражался и снова жил «народ-победитель».
Безусловно, говоря о разном отношении к прошлому в России и Германии, невозможно пройти мимо международной оценки коммунизма. В отличие от национал-социализма, коммунизм никогда не был назван мировым сообществом криминальным учением и преступным режимом. Политкорректный дискурс, признавший фашизм абсолютным злом, не распространился на советское прошлое. Размышляя о причинах столь разной оценки, можно вспомнить об интимной связи с коммунизмом левых европейских интеллектуалов, о длительном опыте взаимодействия европейских демократических стран с Советским государством и о безразличии к оценкам советского строя со стороны российских граждан. Но, может быть, главной проблемой является неразрывная связь марксизма с прогрессистской идеологией Просвещения и с социалистической идеологией, без которых немыслима современная западная демократия?
Демократы-западники: «жертвы тоталитаризма»
1986—1991 годы стали эпохой «разоблачения преступлений сталинизма», ненадолго превратив советское прошлое в главную тему публичных дискуссий[131]. Жгучий интерес к истории в те годы был вызван не просто пробудившейся «исторической памятью», «любознательностью» и — как вскоре стало понятно — не больной совестью общества.
Советская история была главным средством легитимизации советского режима. В ней обосновывалась «неизбежность Великой Октябрьской социалистической революции» и победа социализма, а «триумфальное шествие советской власти» возводилось в ранг исторического закона. «Живая душа марксизма» — классовая борьба - находила в ней свое воплощение. Поэтому поиск свидетельств против советского режима естественно вел в историю. Из главного средства легитимизации советского строя история была превращена российскими демократами-западниками в главное средство его разоблачения. К 1989 году, когда контуры «новой» истории советского режима, наскоро набранной из «белых пятен», стали вырисовываться вполне отчетливо, советская система (хоть и ненадолго) показалась скомпрометированной.
Казалось бы, теперь, когда российская демократическая интеллигенция — лидер поиска правды о прошлом — встретилась с ним лицом к лицу, она задумается, как быть с такой историей, с тяжким наследством, от которого нельзя отречься. Но бурный интерес к советскому прошлому угас так же внезапно, как некогда вспыхнул в ходе кампании гласности. Переосмысление прошлого с удивительной быстротой утратило свое политическое и символическое значение. К началу 1992 года его полностью отодвинул на задний план вопрос о выборе экономической модели развития России.
Как ни странно это может показаться на первый взгляд, важнейшим толчком для исчезновения интереса к советскому прошлому послужило совмещение идеи о построении в России общества по образцу современного западного общества с некоторыми положениями марксистской историософии. Массовая идеализация Запада, охватившая российское общество в конце 1980-х — начале 1990-х годов, стала способом переживания тех перемен, которые привели в сознании россиян к отрицанию своей связи с советским прошлым.
Напомним, что идея демократических преобразований была в конце 80-х — начале 90-х крайне популярной во всем обществе, а не только среди прозападнической интеллигенции. Идеализация Запада, а именно представление о Западе как об обществе не только социально и экономически эффективном, но и морально и эстетически совершенном, постепенно превратилась в символ отрицания «всего советского». Семантическое противостояние советской системы западному капитализму медленно, но верно подменялось причинно-следственной связью: все недостатки социализма нашли свое объяснение в отклонении России от «магистрального пути развития человечества» после прихода к власти большевиков, Запад превратился в образ желанного будущего и приобрел силу нового социального проекта, создавая выход из исторического тупика, в который завел общество социализм.