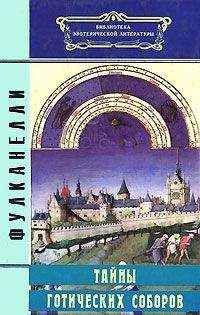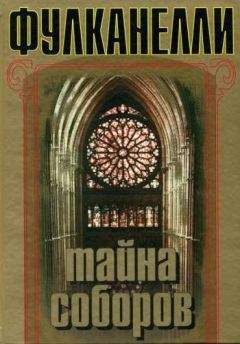Отметим, что уже с первых дней кампании гласности формулой поиска «правды о прошлом» стало «разоблачение преступлений сталинизма». Она позволила выделить из советской истории сталинизм и представить его как нечто внешнее, не имеющее отношения — за давностью лет и в силу явно ограничительного характера определения — ни к ныне живущим потомкам, ни к сущности российской истории. Чем более подробной — благодаря усилиям самих западников — становилась картина неприглядного прошлого, тем более сильным оказывалось стремление отожествить это прошлое не с собой, а с враждебным режимом, сам факт осуждения которого сегодня давал возможность почувствовать себя непричастным к нему вчера. В результате «осуждения сталинизма» советское прошлое превратилось в чужое прошлое, чужую историю, не имеющую никакого отношения к тем, кто решил заново «обустроить Россию».
Разрыв с прошлым оказал огромное влияние на самосознание российских западников. Он превратил переживание прерывности исторического времени в жизненный опыт масс и может по праву считаться значимым эпизодом в истории распада идеи непрерывного, необратимого, объективного времени мира.
В глазах российских западников начала 1990-х годов советская власть оказалась скомпрометирована не только как социальная система или политический режим — советский период перестал расцениваться ими как историческое время, наполненное событиями. После разоблачений кампании гласности на его месте не осталось ничего, достойного упоминания. Восприятие советского прошлого как безвременья, «распада связи времен», трансформировалось в отрицание советского периода как временной протяженности. Семьдесят четыре года советской власти уничтожили историческую преемственность и оставили после себя провал во времени.
Временная дыра на месте советского периода отбросила российских западников назад в прошлое, заставляя их рассматривать свое российское настоящее как конец XIX — начало XX века. По расхожему выражению тех лет, постперестроечная Россия — это «Штаты 20-х годов», или «заря капитализма». Настоящее России не просто сопоставлялось с историческим прошлым мира, но осмыслялось как повторение исторического опыта начиная с того момента, когда в октябре 1917 года течение времени прервалось. Но поскольку путь, по которому Россия должна была пойти в современный Запад, был уже пройден, ей оставалось только побыстрее повторить его, возвратиться «на магистральный путь мировой истории», «вернуться в человечество», поскорее «оставив в прошлом все то, что делало Россию культурным гетто».
Главным гарантом прибытия России в счастливое настоящее Запада была вера в прогресс. Без убежденности в том, что история человечества есть необратимое движение из худшего прошлого в лучшее будущее, путешествие в современный Запад становилось весьма проблематичным. Для того чтобы открыть дорогу России в Запад, советское прошлое должно было исчезнуть в пучине забвения; его присутствие разрушало веру в прогресс. Российским западникам предстояло позже эмпирически нащупать и пережить то, что в 70-е годы философски осмыслили западные интеллектуалы: именно Аушвиц и ГУЛАГ стали теми событиями-разрывами, которые подорвали прогрессистскую уверенность в будущем, поместив на горизонте непредсказуемого грядущего вместо радужных надежд зияющую катастрофу. Память о советском прошлом должна была сгинуть в недрах западнических иллюзий, чтобы обеспечить россиянам — пусть ненадолго — уверенность в светлом западном завтра.
Как определить политический режим, который существует сегодня в России? Можно ли называть демократическим строй, при котором большинство населения поддерживает восстановление однопартийной политической системы, никак не реагирует на нарастающее сворачивание демократических свобод или, уж во всяком случае, никак не сопротивляется этим тенденциям? И на каком основании не считать такой режим демократическим?
Просвещение, боровшееся с христианской идеей первородного греха, приучило нас писать слово «Человек» с большой буквы и считать, что человек по своей природе прекрасен и непорочен. Начиная с XVIII века «народ-суверен» предстал в качестве воплощения морали, нравственности, источника мудрости и истины. В результате народные добродетели воспевали в XVIII веке и требовали освободить народ от гнета религии, ложной морали, власти правящих классов и эксплуатации на протяжении всего XIX века.
Аушвиц и Гулаг вызвали глобальный кризис того цивилизационного проекта, который лег в основу европейской демократии. Этот кризис, отложенный «блестящим тридцатилетием», выразился в подрыве доверия к ценностям, завещанным эпохой Просвещения, и в распаде опиравшихся на них представлений об обществе. Он заставил усомниться в основах демократического общественного устройства и обусловил глубокий кризис демократии, переживаемый современным обществом.
Критики демократии неоднократно отмечали, что и фашизм, и коммунизм были демократическими режимами, обеспечивавшими доступ к управлению государством и обществом выходцам из социальных низов, подчеркивали, что в демократическом устройстве заложен принцип его саморазрушения и перерождения[132]. И при коммунистическом, и при фашистском режиме народовластие было ощутимо дополнено прямой и непосредственной материальной выгодой «широких масс», основанной на глобальном переделе собственности[133]. Небывалый массовый идеологический успех обоих режимов трудно не связать с тем, что предлагаемые «народу» идеи и ценности формировались на основе распространенных представлений и находили, несмотря на огромное количество жертв среди самих демократических слоев населения, например крестьянства в советской России, глубокий отклик в массах. Разделенная система ценностей создавала основу консенсуса между властью и обществом, питалась и поддерживалась благодаря живому диалогу между ними. В этом смысле фашизм и сталинизм были народными режимами: народ — в лице тех, кто был в состоянии «отразить его чаяния», — взял власть в свои руки и поставлял из своих рядов идеологов и «реальных политиков».
Не менее важен тот факт, что и фашизм, и сталинизм сохранились в памяти «широких масс» как миф о золотом веке. Исключительно проницательная характеристика такой памяти, сохранявшейся в Германии еще в 19б0-е годы, принадлежит перу Теодора Адорно: «Очень многим при фашизме жилось совсем не плохо. Террор был направлен лишь против немногих более или менее строго определенных групп. После кризисного опыта предшествовавшей Гитлеру эпохи преобладало чувство “о нас заботятся”. (...) Бесчисленному количеству людей казалось, что холод отчужденного состояния в его бесчисленных формах был упразднен и заменен не важно как манипулируемым и навязываемым теплом соборности. (...) Она (память. — Д. Х.) упорно прославляет национал-социалистический период когда исполнялись коллективные властные фантазии людей которые, взятые по отдельности, не имели власти и которые представляли себя чем-то лишь в качестве такой коллективной власти. Никакой, даже самый ясный анализ не может задним числом изгнать из мира реальность этого исполнения фантазий, равно как и те инстинктивные энергии, которые были инвестированы в национал-социализм»[134].
Тема преемственности тоталитаризма и демократии остро поставлена в работах итальянского философа Джорджио Агамбена. Опираясь в своем анализе на рассуждения Ханны Арендт и позднего Мишеля Фуко, Агамбен показывает, что концентрационный лагерь и сегодня не является эпифеноменом, а структурообразующим элементом современного демократического общества:
«Приходится рассматривать концентрационный лагерь не как исторический факт и аномалию, принадлежащую прошлому (вполне способную, впрочем, к восстановлению), но, в некотором смысле, как скрытую матрицу, как номос политического пространства, в котором мы живем до сих пор»[135].
Современное западное общество, с точки зрения Агамбена, так и не смогло вернуться к состоянию прежней «политической невинности», к прежним ценностям: «биополитическая парадигма Запада сегодня — это лагерь, а не град»[136]. Свое исключительно точное наблюдение Агамбен строит на анализе различных аспектов жизни современного западного общества, его структуры, его образа себя и его практик:
«Лагерь (...) является скрытой матрицей политики, при которой мы продолжаем жить и которую мы должны приучиться распознавать, во всех ее метаморфозах, в зонах ожидания в наших аэропортах так же, как и в некоторых предместьях наших городов»[137].
Точность анализа современности, предложенного Агамбеном, трудно оспорить. И тем не менее степень укорененности концентрационного опыта различна. Проработка прошлого, например, в Германии, где сегодня преобладает крайне критичное отношение к фашизму а правовые нормы и политкорректный дискурс исключают публичные проявления ностальгии о нацистском периоде, не могла не привести если не к полному уничтожению связанных с ним «властных фантазий», то хотя бы значительно снизила их привлекательность.