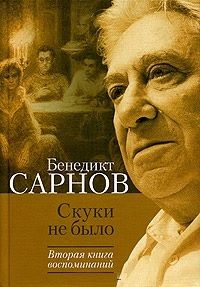Да и эти скупые сведения откуда, собственно, могли стать известны автору? Со свечой он там, надо полагать, не стоял — ни до 15-го года, ни после. Сообщить ему это могла разве только сама Л. Ю. Брик. Но она ничего похожего сообщить ему не могла. На прямой вопрос много лет дружившего с нею близкого моего приятеля, не был ли Маяковский импотентом, ответила:
— Со мной — никогда!
Да и с другими, судя по всему, тоже.
► Мы встречались часто. По-прежнему я бывала у него на Лубянке…
Он очень обижался на меня за то, что я никогда не называла его по имени. Оставаясь вдвоем, мы с ним были на ты, но даже и тут я не могла заставить себя говорить ему уменьшительное имя, и Владимир Владимирович смеялся надо мной, утверждая, что я зову его «никак»…
Он много говорил о своем отношении ко мне, говорил, что, несмотря на нашу близость, он относится ко мне как к невесте…
(Вероника Полонская. «В расчете с жизнью»)Стало быть, не только в карты играли они там, у него, на Лубянке, когда оставались вдвоем…
Ну, а чего стоит совсем уже комическое утверждение Карабчиевского, что запись стиха «лесенкой» была придумана Маяковским «специально для замены традиционной системы пунктуации, которой он так и не выучился». Запятые ему расставлял Брик:
► При наличии знаков, расставленных Бриком, эта система становится не только не нужной, но и лишней… А ведь он ввел это новшество в 23-м году, когда запятатки уже давно и вовсю расставлялись! В чем тут дело? Не в том ли, что именно в это время, в период написания поэмы «Про это», возникла возможность остаться без дружбы Брика, а следовательно, и без запятаток, один на один со своим обнаженным текстом.
(Стр. 162)С Бриком они, как известно, не поссорились — ни в 23-м году, ни позже. Почему же тогда Маяковский на всю жизнь сохранил верность этой своей «лесенке»?
Вот как объяснял это он сам:
► Размер и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда она берется по старому шаблону.
Все-таки все читают стих Алексея Толстого:
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током…
как —
Шибанов молчал из пронзенной ноги…
Дальше:
Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться…
читается как провинциальный разговорчик:
Чтобы читалось так, как думал Пушкин, надо разделить строку, как делаю я:
При таком делении на полустрочия ни смысловой, ни ритмической путаницы не будет.
(«Как делать стихи»)Конечно, с этим соображением Маяковского можно и не соглашаться. Но можно ли, объясняя природу знаменитой его «лесенки», о нем даже и не упомянуть?..
Слаб человек: я все-таки втянулся в полемику. Притом по самым дурацким поводам.
Видит Бог, я этого не хотел.
Решив, что книгу Карабчиевского, какого бы низкого мнения о ней ни был, я не могу обойти, я хотел только обратить внимание на те стихи Маяковского, которые автор этой книги цитирует, которые приводит, на которые постоянно ссылается.
Пойду подряд, страница за страницей, не выбирая:
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром…
Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылаю
в исповеди!..
Севы мести в тысячу крат жни!
в каждое ухо ввой!..
Пусть горят над королевством
бунтов зарева:
пусть столицы ваши
будут выжжены дотла!
Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!..
Теперь не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мести!
Ноги знают, чьими трупами им идти…
А мы — не Корнеля с каким-то Расином —
отца, — предложи на старье меняться, —
мы и его обольем керосином
и в улицы пустим для иллюминаций…
Ко мне,
кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего трупа с песнею…
Все эти цитаты, собранные вместе, легко выстраиваются в концепцию: Маяковский — певец насилия. Основной мотив его поэзии — месть, культ сладострастной жестокости. Его пафос — это пафос погрома. Именно поэтому Маяковский так радостно, так восторженно принял Октябрьскую революцию, с ее культом жестокой диктатуры, с ее прославлением расстрелов и всяческого насилия, с ее пафосом погрома культуры:
Футуристы прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти…
Время
пулям
по стенке музея тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
Старье охраняем искусства именем.
Или зуб революций ступился о короны?
Скорее!
Дым развейте над Зимним
фабрики макаронной!..
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!
Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом,
жарь,
жги,
режь,
рушь!
Совершенно очевидно, что все эти цитаты автор выбирал, так сказать, по содержанию, по сугубо тематическому принципу. Ему важно было доказать, что все стихи Маяковского, — и ранние, и поздние, — бьют в одну точку. Он это и доказал, благо таких строк у Маяковского и в самом деле немало.
Но тут возник совершенно неожиданный, отнюдь не запланированный автором эффект. Выяснилось, что у всех этих собранных воедино стихотворных строк, помимо смысловой, тематической близости, есть еще одна, сразу бросающаяся в глаза общность: все они утомительно, удручающе неталантливы. Неуклюжие, натужные каламбурные рифмы («ввысь поведи — в исповеди»), нелепые, косноязычные словообразования («вылаю», «ввой»).
В юности я был влюблен в Маяковского. Позже, став литератором-профессионалом, специально им занимался. И хотя давно уже эту мою первую поэтическую любовь — не вытеснили, но слегка потеснили в моем сердце другие поэты, многие строки Маяковского до сих пор живут в моей памяти. И до сих пор мне иногда звонят друзья-приятели и спрашивают, не помню ли я, из какого стихотворения (или поэмы) Маяковского такая-то или такая-то строчка. И как правило, я помню.
Но странное дело! Из тех строк Маяковского, которые цитирует Карабчиевский, я не помню ни одной. Разве только те, что запомнились по традиционным нападкам на поэта, — те, которыми его всю жизнь шпыняли, над которыми глумились, по поводу которых негодовали. («Я люблю смотреть, как умирают дети…»)
Помню я (не механической памятью, а памятью сердца) совсем другие строки.
Цитирую, не сверяясь с собранием сочинений, а так, как они запомнились мне полвека тому назад:
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека…
Послушайте! Ведь если звезды зажигают,
значит это кому-нибудь нужно?
Значит это необходимо,
чтоб каждый вечер над крышами
загоралась хоть одна звезда…
Какими Голиафами я зачат —
такой большой и такой ненужный?..
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было. Было в Одессе.
Приду в четыре, — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять…
Мама! Ваш сын прекрасно болен!
Мама! У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться…
Я знаю, каждый за женщину платит.
Ничего, если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака…
Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел к Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Был вором ветром мальчишка обыскан,
попала ветру мальчишки записка,
стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте! Кончаю! Прошу не винить.
До чего ж
на меня похож…
Все чаще думаю:
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце…
Лошадь, не надо! Лошадь, послушайте!
Что вы думаете, что вы их плоше?
Деточка! Все мы немного лошади,
каждый из нас по-своему лошадь…
Я люблю зверье. Увидишь собачонку —
тут, у булочной, одна — сплошная плешь.
Из себя и то готов достать печенку:
— Мне не жалко, дорогая, ешь!
Не молод очень лад баллад,
но если слова болят,
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад..
Но мне люди, и те, что обидели,
вы мне всего родней и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?..
Если я чего написал,
если чего сказал,
тому виной глаза-небеса —
любимой моей глаза.
Круглые, да карие,
горячие — до гари…
Любит? Не любит? Я руки ломаю
и пальцы разбрасываю разломавши.
Так рвут, загадав, и бросают по маю
венчики встречных ромашек…
Любви я заждался. Мне тридцать лет…
А за что любить меня Марките?
У меня и франков даже нет…
Уже второй. Должно быть, ты легла,
а может быть и у тебя такое.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить…
Все меньше любится, все меньше дерзается,
и время мой лоб с разбега крушит.
Приходит страшнейшая из амортизаций —
амортизация сердца и души…
Так вот и жизнь пройдет, как прошли
Азорские
острова…
Ну кому я, к черту, попутчик?
Ни души не шагает рядом…
Ты одна мне ростом вровень,
стань же рядом, с бровью брови…
Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят — что ж!
По родной стране пройду стороной,
как проходит косой дождь…
Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид…
Карабчиевский, цитируя, не выбирал любимые или хотя бы просто нравящиеся ему строки. (Может быть, у Маяковского даже и нету строк, которые бы ему по-настоящему нравились.) Не думал он, выбирая, и о том, талантливые это строки или нет. Он цитировал то, что ему было нужно по смыслу. Но вышло так, что — вольно или невольно — он из всего Маяковского выбрал самые плоские, самые натужные, самые бездарные строки.