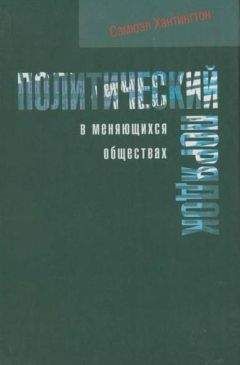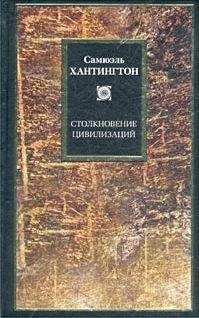Ознакомительная версия.
Ни в каком обществе существенные социальные, экономические или политические реформы не происходят без насилия или угрозы насилия. Относительно децентрализованное и спонтанное насилие служит обычным средством, с помощью которого группы, находящиеся в худшем положении, привлекают внимание к своим бедам и требованиям. Активные участники таких насильственных действий обычно удалены от центров власти, но факты такого насилия могут быть успешно использованы реформаторами для осуществления мер, которые иначе были бы невозможны. Такое насилие вполне может поощряться лидерами, которые полностью готовы действовать в рамках существующей системы, но рассматривают насилие в качестве необходимого стимула для проведения реформ внутри этой системы. История реформ в США — от Джефферсона, аболиционистов, популистов и рабочего движения до движения за гражданские права — наполнена случаями насилия и других форм беспорядка, которые служили толчком для изменения правительственной политики. В Англии в начале 1830-х гг. бунты и другие формы насилия сыграли значительную роль в деле консолидации сторонников предложенного вигами в 1832 г. Акта о реформе. В Индии в 1950-е гг. группы представителей среднего класса обычно прибегали к демонстрациям, бунтам, «сатьяграхе» и другим формам массового протеста (обычно в сопровождении насилия), чтобы добиться уступок от правительства15.
Что касается модернизирующихся стран вообще, то самой, пожалуй, важной формой нелегальных и часто насильственных действий в поддержку реформ является захват земли. По многим ранее обсуждавшимся причинам земельная реформа имеет ключевое значение для поддержания политической стабильности. Однако осуществление этой реформы часто требует нарушения стабильности. К примеру, в Колумбии в конце 1920-х и начале 1930-х гг. крестьяне начали захватывать частные земли. Многие асиенды были захвачены целиком и обращены в кооперативы, управлявшиеся с помощью коммунистических функционеров. Землевладельцы настаивали, чтобы полиция и армия приняли меры для восстановления их прав собственности. Правительство, однако, отказалось активно принять чью-либо сторону в местных схватках, а воспользовалось этими проявлениями насилия в сельских районах для того, чтобы провести через парламент — где, как и в большинстве парламентов в модернизирующихся странах, преобладали помещики — закон о земельной реформе, который легализовал захваты и, по существу, поставил права собственности в зависимость оттого, насколько эффективно эта собственность используется. Сходным образом в Перу захваты земли, происходившие в 1963 г. одновременно с избранием правительства Белаунде[50], послужили необходимым толчком для сплочения сторонников реформ, проводимых этим правительством. В обоих этих случаях, однако, децентрализованное насилие совпало во времени с нахождением у власти сочувствующей и ориентированной на реформы администрации, точно так же, как это и в случае насильственных действий сторонников гражданских прав в середине 1960-х в США. В большинстве обществ гражданский мир невозможен без некоторых реформ, а реформы невозможны без некоторого насилия. Эффективность насилия в качестве стимулятора реформ прямо зависит от того, в какой мере оно содействует мобилизации в политику новых групп, использующих новые политические методы. Кроме того, эффективность насилия зависит от наличия реальных политических альтернатив, осуществление которых может умерить беспорядки. Если насилие предстает как чисто аномическая реакция на общую ситуацию, и мишени, против которых оно направлено, размыты и неопределенны, то оно мало может способствовать проведению реформ. Для того чтобы оно выполнило эту функцию, и реформаторы, и консерваторы должны воспринимать это насилие как прямо связанное с действием по некоторому конкретному политическому вопросу. В таком случае насилие переводит обсуждение с вопроса о достоинствах реформы на вопрос о необходимости общественного порядка.
В самом деле, позиции реформаторов никогда не бывают столь сильными, как тогда, когда они ссылаются на необходимость сохранения мира в стране. Сознание этой необходимости привлекает на сторону реформ консерваторов, заинтересованных в подержании порядка. С первых дней правления Варгаса[51] в 1930-е гг. бразильская элита часто цитировала фразу: «Мы должны совершить революцию прежде, чем ее совершит народ». После беспорядков в Бирмингеме в 1963 г. президент Кеннеди заявил, что принятие билля о гражданских правах было необходимо, чтобы «перенести борьбу с улиц в суды». Непринятие билля, предупреждал Кеннеди, приведет к «непрекращающимся, если не растущим, расовым столкновениям, в ходе которых лидерство с обеих сторон неизбежно перейдет из рук разумных и ответственных людей в руки носителей ненависти и насилия». Подкрепленные такими аргументами, как расовые беспорядки и расовое насилие, предсказания, подобные этому, побуждали даже консервативных республиканцев и демократов поддержать законодательство о гражданских правах.
Та эффективность, с которой насилие и беспорядки выступают в роли стимуляторов реформ, не вытекают, однако, из сущности самого насилия. Не насилие само по себе, а, скорее, шок и ощущение новизны, связанные с применением незнакомого или необычного политического метода, служат делу проведения реформы. Именно видимая готовность общественной группы выйти за пределы принятых форм действия придает убедительность ее требованиям. Фактически такие действия связаны с диверсификацией политических методов и угрозой для существующих политической организации и процедур. Бунты и насилие, например, были обычным явлением в Англии в начале XIX в. Однако масштабы и напряженность насильственных действий в 1831 г. были внове. Комментируя бунты в Ноттингеме и Дерби, Мельбурн[52] отмечал: «Такие проявления насилия и ярости являются, как я полагаю, чем-то совершенно новым и беспрецедентным в этой стране; по крайней мере, я не припомню, чтобы когда-либо слышал о нападениях на дома, их разграблении и поджогах во время волнений, происходивших когда-либо в прошлом»16. Именно беспрецедентный характер насилия и побудил Мельбурна приступить к реформам. Точно так же в США сидячие забастовки 1930-х и сидячие демонстрации против дискриминации 1960-х были теми новыми тактиками, сама новизна которых подчеркивала серьезность требований, выдвигавшихся соответственно рабочими и неграми. Обычным явлением бунты и демонстрации были в Южном Вьетнаме в 1963 г. Однако самосожжение буддийских монахов отражало рост масштабов насилия, который, несомненно, сыграл значительную роль, склонив американских чиновников и вьетнамских офицеров к выводу о необходимости изменения режима.
Именно новизна метода, а не то, каков этот метод, стимулирует проведение реформ; это доказывает тот факт, что повторное применение метода снижает его ценность. В 1963 г. расовые беспорядки в США и самосожжения монахов во Вьетнаме способствовали внесению существенных изменений в правительственную политику и смене политического руководства. Тремя годами позже сходные события не имели аналогичных последствий. То, что когда-то казалось шокирующим отклонением от политической нормы, теперь сделалось сравнительно обычной политической тактикой. Во многих преторианских политических системах насилие становится эндемической формой политического действия и потому полностью утрачивает свою способность порождать значительные изменения. К тому же в непреторианских системах новые или необычные формы протеста вполне могут быть включены в число форм политического действия, признаваемых законными. Верно подметил А. Васкоу: «В той мере, в какой политика нарушения порядка нацелена на то, чтобы привести к изменениям, ее обычно изобретают люди, находящиеся „вне“ данной системы политического порядка и желающие вызвать изменения, которые позволили бы им войти в систему. Делая это, они обычно используют новые методы, имеющие смысл для них в силу их собственного опыта, но представляющиеся беспорядком для людей, которые мыслят и действуют внутри системы. Негры ни в коем случае не были первыми, кто стал так действовать. К примеру, в XVII–XVIII вв. городские стряпчие и торговцы, которые не могли добиться от не желавших ничего слышать политиков, чтобы те обратили внимание на их беды, использовали такое незаконное и нарушавшее порядок средство, как политические памфлеты против установленного порядка. Точно так же в XIX в. рабочие, которые не могли добиться от своих работодателей и выборных законодателей, чтобы те обратили внимание на их требования, прибегали к образованию профсоюзов и забастовкам — которые поначалу были незаконными, — чтобы привлечь внимание к своим трудностям. В обоих случаях использование политики нарушения порядка имело своим результатом не только то, что применившие ее были приняты в качестве участников политического порядка и их ближайшие нужды были приняты во внимание, но и то, что новые методы были включены в реестр допустимых. Короче говоря, изменилась сама система „порядка“. Так, то, что квалифицировалось как „преступные“ политические памфлеты, получило освящение в условиях свободы печати, „преступный заговор“ в форме забастовки был легализован в системе свободных профсоюзов. То, что в одном столетии было беспорядком, в другом превратилось в свободу в рамках закона и порядка»17. Одним из критериев адаптивности системы вполне может служить ее способность усваивать, смягчать и узаконивать новые методы политического действия, применяемые группами, которые предъявляют к системе новые требования.
Ознакомительная версия.