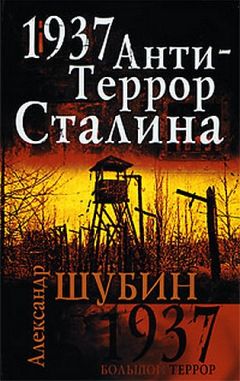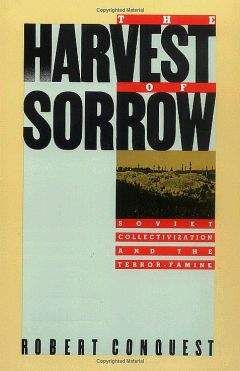Централизовав партийно-государственную систему, урегулировав отношения со «своими» военными и направив их энергию в «полезное русло», разгромив «теневые правительства» спецов, лишив их возможной военной опоры, почистив и запугав интеллигенцию, еще раз унизив внутрипартийную оппозицию, Сталин надеялся, что теперь можно спокойно «дожать» страну, успешно завершить пятилетку. Но бедствия 1932–1933 гг. были столь велики, что недовольство стало все заметнее проявляться в партии.
После 1929 г. резко меняется характер переписки между партийными вождями. Из писем всех, кроме Сталина, почти исчезает обсуждение идейных вопросов и личности коллег. Большевики сообщают друг другу о любви к корреспонденту и своих трудах на благо страны и партии, о ненависти к уже осужденным врагам и противникам, о трудностях, которые все же будут преодолены.
Сталкиваясь с провалами и бедствиями пятилетки, партийцы быстро правели. О. В. Хлевнюк комментирует: «Несомненно, „правые“ настроения были распространены и среди рядовых членов партии. Это было одной из причин очередной чистки партии. В 1929–1931 гг. из ВКП(б) было исключено около 250 тыс. человек, значительная часть которых поплатилась партбилетом за принадлежность к „правому уклону“»[95]. Всего за причастность к оппозициям и нарушение партийной дисциплины было вычищено 10 % исключенных (за бытовые проступки — 21,9 %)[96]. Вычищались «классово чуждые», уличенные в обмане «двурушники», нарушители дисциплины, сомневающиеся в партийных решениях (вот они, «правые»), «перерожденцы, сросшиеся с буржуазными элементами», «карьеристы», «шкурники», «морально разложившиеся». Вслед за этой чисткой почти сразу началась новая — сталинский аппарат снова перебирал партийные кадры. Многие партийцы, вычищенные в 1933–1936 гг. как «карьеристы», «шкурники» и т. п., вернутся на руководящие посты в 1937–1938 гг. А кому не повезет, тех в 1937 г. расстреляют. Они «озлоблены», а значит, опасны.
Самое опасное теперь было — принадлежность в прошлом к оппозиции. Какую бы позицию человек ни занимал в прошлом, его причастность к оппозиции означала — склонен размышлять «своей головой». А что, если, получив приказ, он снова начнет размышлять?
Но и вне партии такие люди себя не видели. Они были убежденными коммунистами, многие привыкли командовать (а такую возможность давал партбилет).
Судьба типичного фракционера 20-х годов в 30-е годы — взлеты и падения, «сизифов труд» карьеры.
Так, например, подписавший заявление 83-х В. Лавров исключался из партии трижды, последний раз за примиренчество к троцкизму в 1933 г., снова вступал и в 1936 г. прошел очередную проверку партийных документов и работал в Восточно-Сибирском крайкоме. Бывшие оппозиционеры работали даже в НКВД. Большинство проверенных во время чисток скрывали былую принадлежность к оппозиции[97]. В 1932 г. в московских центральных учреждениях работали около 600 бывших оппозиционеров[98]. При этом в новых условиях левые часто становились правыми. Для бывших троцкистов появились даже новые «правые» квалификации. Так, К. Долгашев в январе 1928 г. был исключен как троцкист, восстановлен в партии в том же году, был директором совхоза, несвоевременно сдал зерно в 1932 г. и был привлечен к ответственности как «правый оппортунист на практике». Бывший троцкист, старший консультант Центрального планового сектора Наркомтяжпрома П. Зумский в 1931 г. получил выговор за праволевацкие настроения[99].
В 1930 г. выяснилось, что продолжается активность «рабочей оппозиции», была разоблачена ее группа в Омске. А в январе 1933 г. «бывший» лидер «рабочей оппозиции», а ныне член президиума Госплана А. Г. Шляпников публично заявил, что Октябрьская революция крестьянству ничего не дала[100].
Настоящим шоком для правящих кругов стало дело «Союза марксистов-ленинцев». Организатором союза стал бывший первый секретарь Краснопресненского райкома М. Рютин, снятый с поста за правый уклон и исключенный из партии в 1930 г. К марту 1932 г. он подготовил два документа: «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и воззвание «Ко всем членам ВКП(б)». 21 августа несколько сторонников Рютина, руководителей низшего звена, собрались на квартире в Головине под Москвой и приняли эти документы как платформу Союза марксистов-ленинцев. Новая организация приступила к пропаганде, распространяя свои документы. По отлаженным каналам неформальных внутрипартийных связей этот самиздат дошел до Зиновьева, Каменева, Томского, Угланова, Слепкова, Марецкого, то есть как до правых, так и до левых. Они не сообщили об этом в ЦК и ЦКК. Документы Союза «просочились» в Харьков, а возможно, и в другие города. Они получили распространение в ВЦСПС. В итоге платформа Рютина сыграла роль «меченого атома». Обнаруживая этот документ в самых разных кругах партийцев, ОГПУ докладывало Сталину, что круги эти контактируют друг с другом.
Сталин стал подозревать, что платформа была составлена не Рютиным, а Бухариным, и стала проектом программы объединенной антисталинской оппозиции[101].
Работа Рютина производила на рядового партийца впечатление откровения. Многочисленные беды, обрушившиеся на страну, систематизировались с марксистско-ленинских позиций.
Анализируя ситуацию в стране, Рютин отмежевывается от Бухарина и признает частичную правоту Троцкого. Но он считает, что старые вожди оппозиций не годятся для борьбы, нужно движение в низах партии. Опора Сталина в партийной массе неустойчива: «История и тут шутит со Сталиным злую шутку: он… создает лишь самый худший вид мелкобуржуазного политиканства наверху и задавленных, забитых манекенов… внизу»[102].
Опираясь на завещание Ленина и собственный анализ кризиса страны и партии, Рютин делает вывод: «Пролетарская диктатура Сталиным и его кликой наверняка будет погублена окончательно, устранением же Сталина мы имеем много шансов ее спасти»[103].
Воззвание в сжатой форме суммировало содержание платформы: «Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола и поставил Советский Союз на край пропасти… Ни один самый смелый и гениальный провокатор для гибели пролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма не мог бы придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики…»[104]
Сталин высоко оценил платформу Рютина. Как мы увидим, он считал, что Рютин лишь взял на себя ответственность за платформу объединенной оппозиции, написанную более известными вождями.
По словам Бухарина, меньшевику-эмигранту Б. Николаевскому «Сталин объявил, что эта программа была призывом к его убийству, и требовал казни Рютина»[105]. Бухарин не был свидетелем обсуждения вопроса о Рютине в Политбюро, но, опираясь на его слова и другие слухи, Николаевский утверждал, что между «умеренными» членами Политбюро (включая Кирова) и Сталиным разгорелась настоящая борьба. Проанализировав имеющиеся источники, О. В. Хлевнюк делает убедительный вывод: «В общем доступные документы заставляют признать рассказ Николаевского о столкновении между Сталиным и Кировым по поводу судьбы Рютина не более чем легендой, каких немало в советской истории»[106].
2 октября было принято решение исключить из партии всех, знавших о документе и не сообщивших о нем. К партийной и уголовной ответственности было привлечено около 30 человек. Немного. Сначала казалось, что речь идет все же о бывших оппозиционерах, ныне потерявших политическое влияние. Но вскоре выяснилось, что участники оппозиций пользуются влиянием на круги партхозаппарата, ранее непричастные к фракциям, более осторожные, менее оформленные, но обсуждающие то же самое.
В 1932 г. Сталин столкнулся с фактом обсуждения прежде лояльными партийными работниками необходимости его смещения. 19–22 ноября 1932 г. кандидат в члены ЦК М. Савельев сообщил Сталину о беседах своего знакомого Н. Никольского с наркомом снабжения РСФСР Н. Эйсмонтом. Среди прочего Эйсмонт сказал (в интерпретации Савельева): «Вот мы завтра поедем с Толмачевым к А. П. Смирнову, и я знаю, что первая фраза, которой он нас встретит, будет: „и как это во всей стране не найдется человека, который мог бы „его“ убрать“»[107].
Еще в 1930 г. Эйсмонт в письме Сталину, Рыкову и Орджоникидзе высказал сомнения по поводу методов следствия ОГПУ: возможно, «применяются пытки с целью сознаться во взятках»[108]. Возможно, это было начало его сомнений. Потом они усиливались во время откровенных разговоров правительственных чиновников, иногда за «рюмкой чая». Сталин раздраженно писал: «Дело Эйсмонта — Смирнова аналогично делу Рютина, но менее определенное и насквозь пропитано серией выпивок. Получается оппозиционная группа вокруг водки Эйсмонта — Рыкова… рычание и клокотание Смирнова и всяких московских сплетен как десерта»[109].