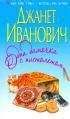— Вербовщик разве не предупреждал, что с дитем не оформляем?.. Не твой?! Ты не заливай! Родила и открещиваешься. Тут своих гибель. Рабочих селить негде.
С криком встретил старик девушку в накидке и позднее, когда она переступила порог отдела кадров.
— Вертайся в свой Лемдяй! Все!
Нюра — она ждала в очереди возле двери — едва не попятилась в темный угол, готовая прижаться к полу, как, бывало, прижималась к грядке, когда в ушах нарастал ужасающий вой авиабомбы.
— За что ЕГО-ТО — вскрикнула она тоненьким голосом, в котором слышались слезы. Перехватив поудобнее сына, она попятилась к выходу.
Путь ей преградила старшая: — Жди тут!
Если б не вмешательство старшой, кто знает, как обернулось бы дело. Когда старшая возвратилась из отдела кадров, тощее, землистого цвета лицо ее было жестким. Отчетливее проступила темная полоса рубца, — видно, след военных лет. На ломаном русском языке она наказала Нюре, как говорить с управляющим. Ей, Нюре, отдельного угла не надо. Ее берут в общежитие, в свою комнату, новички, которые из Мордовии. По оргнабору.
В узкой, как коридор, приемной управляющего Ермакова, расположенной этажом выше, не было ни одного стула. Остро пахло лаком для ногтей, который наносила на свои растопыренные заскорузлые пальцы, пальцы вчерашней подсобницы, завитая мелкими колечками секретарша.
— Все на корпусах, — не подняв глаз, разъяснила она..
Нюра осталась ждать. Мимо то и дело сновали озабоченные люди с бумагами в руках. Какой-то толстяк, проходивший по коридору без пиджака, со счетами в руках, задержался возле Нюры, вздохнул:
— Всему на свете бабки подбиты. Одни слезы неучтенные…
Она проводила его неприязненным взглядом: жалеет?
В утешителях Нюра не нуждалась с прошлого лета. Те дни были памятны ей час за часом.
… Цвел тополь, и земля была словно в вате. Пух ложился и на сколоченную наспех в саду детского дома сцену и на шелковые, подпоясанные шнурами с серебристыми кистями до колен рубашки парней, которые («Как не видят!» — удивилась Нюра) ступали желтыми лаптями прямо по нежным пушинкам. Вслед за ними на сцену выплыли две жарко нарумяненные молодки, завели светло и задумчиво:
А из-за спин молодок неслось басовитое и приглушенное, точно эхо:
Летят у-утки
И-и два-а гу-уся.
Молодки улыбались, вовсе не думая о том, как звучит в саду, полном прильнувших друг к другу сирот, старинное воронежское «страдание», которым они, по традиции, открыли концерт.
Молодки грустнели, кручинились.:
— нагнетали басы.
И вдруг, опять в два женских голоса, высоко и с той пронзительной тоской, которая заставит притихнуть любого:
«Кого люблю, не дождуся…» — Нюра крепилась, кусая платок, но возле нее кто-то всплакнул. Она закрыла ладошками лицо. И навзрыд….
Утром она бежала с охапкой березовых веников — козлят кормить.
Навстречу ей ступали чьи то грубые, из желтой кожи ботинки.
Она подняла глаза, лишь когда ее окликнули.
Перед ней стоял незнакомый юноша лет двадцати трех, в городском пиджаке, с мотоциклетным насосом в руке. Девочка, ты чья? — спросил он.
— Детдомовская.
— Из каких мест?
— Знала бы…
Юноша пристально вглядывался в нее.
— Как тебя зовут?.. Нюра Староверова?! А я все думаю: на кого ты похожа? На свою мать и похожа!.. Мы соседями были до войны. Ты и мать — две капли воды… Такие же глазищи. А скулы староверовские!
— Я тебя вчера приметил, на концерте, когда ты… ну, расстроилась.
Нюра сама не могла понять, что произошло с ней.
Десять лет, десять долгих лет, день за днем, Нюра ждала, когда за ней придут — отец, мать, брат, родные люди. Детдомовцев чуть не каждую неделю выстраивали на линейке. Нюра стояла с окаменелым лицом.
Взрослые, чаще всего мужчины в шинелях без погон, проходили мимо и мимо.
Правда, как-то один из них вдруг задержался возле нее. Нюра не решалась поднять глаза. Она видела только зеленые обмотки и разбитые ботинки с бечевками вместо шнурков, вдохнула запах дымка, пота, махорки — было ли что роднее этого запаха!
— Гляньте, кака чернявенька! — услышала удивленное. — Тебя, дочка, не у цыган подобрали?
«Может, и впрямь у цыган?» — с тех пор думала Нюра и плакала: никто ее не ищет…
…Отыскали ее. Отыскали!
С семи лет она гадала: какой он, близкий человек? Вот он какой, оказывается. В рабочих ботинках, как отец. Каменщик, как отец. Голубоглазка. Шураня…
У Шурани была мотоциклетка. За час домчали Нюру в полусожженное, за рекой, село Перевоз, к ее хате. Там жил чужой старик. Гончар. Он помнил и Нюру и ее погибших родителей.
Нюра теперь ездила в Перевоз почти каждый день. Помогала старику, таскала в ведре песок, месила глину. И Шураня был тут же… Вечером он снова сажал Нюру на заднее седло. Нюра обхватывала Шураню покрепче, обеими руками, они мчались по лесным тропинкам, и ветки осинника, хлестали их по лицам.
Как-то Шураня выключил мотор на полянке; стало так тихо, что Нюра расслышала, как шуршит листьями ветер и где-то на дальних болотах плачет чибис.
Она сидела и слушала жалобы чибиса, забыв разжать руки, которыми обнимала Шураню, и вдыхая его бензиновый, въедливый запах…
Через месяц Шура уехал. Прислал, как обещал, карточки с городскими видами.
Пришла осень. Оводами облепляли по вечерам Нюру нянюшки, поварихи. Подсаживались к ней на скамеечку.
— Им не рожать, пакостникам! Кому ты теперь нужна?.. — С этого обычно, начиналось. А завершалось часа через два советами беспременно поехать к нему, «предъявить ему, городскому, мандат», «шмякнуть под ноги ребятеночка».
Нюра молчала. Не убеждать же их, что он не пакостник. Угла своего у него нет. На койке мается. Прибьется к своему углу — подаст телеграмму.
Обида шевельнулась вместе с ребенком. «Не напишет. Не поинтересуется…»
Нюра начала копить деньги. На билет. «Не напишет. Не поинтересуется». Сбила на чердаке, втайне от всех, чемодан. Рожать решила в городе, поближе к Шуре.
Но уехать не успела. Когда в сельском роддоме к Нюре поднесли розовенького, орущего Шураню, она, обмирая в душе, попросила санитарку, отъезжавшую в Воронеж, прислать оттуда телеграмму в детский дом, как бы от Шуры: «Приезжай». Директор детдома, властная старуха, прозванная воспитанниками «Кабанихой», по-бабьи всхлипнула над телеграммой и вычеркнула в графе «откуда» слово Воронеж: дознаются подруги, что за телеграмма…
На станции Нюра, чтобы не разреветься, то и дело принималась ободрять директора:
— Не пропадем! Наймемся к Ермаку. Где Шура. А там… как сложится.
Ермаков все еще не приезжал. Руки Нюры, державшие сына, казалось, омертвели: вот-вот пальцы расцепятся.
Она прислонилась спиной и затылком к свежепобеленной стене и, чувствуя на себе взгляды проходящих, молила бога о том, чтоб не нагрянул сюда Шура. Вид у нее с дороги истерзанный. Она уже потеряла счет времени, когда в коридор вошел человек в мохнатой ушанке. Кирзовые сапоги по щиколотку в красноватой глине.
— Нет, это не Ермаков, — с ним никто не здоровался.
Видать, сам решил наняться иль по какому другому делу.
Он прошел мимо нее в приемную, вернулся со стулом в руках. Поставил возле Нюры. Нюра испугалась: «У секретарши отнял?»
— Я постою, — сухо ответила она. — Спасибо!
Но не утерпела, присела на самый краешек, укачивая орущего сына и глядя на входивших своими огромными, чуть припухшими цыганскими глазами. Только слепой мог не заметить этих сухо блестевших и полных отчаяния глаз.
— Вы кого ждете, товарищ? — спросил ее мужчина в мохнатой ушанке, снова появляясь в коридоре.
Нюра молчала, вглядываясь в наклонившееся к ней костистое, как у Шурани, участливое, доброе лицо, и, вдруг решившись, попросила почему-то шепотом и скороговоркой, боясь, что ее перебьют:
— Человек ха-ароший. Не подержите сынка? Я отлучусь на минуточку. А?
Мужчина взглянул на нее оторопело, потоптался в нерешительности, — может, его смутил этот нервный шепот, — и воскликнул нарочито-беззаботным, почти веселым тоном:
— Конечно! Давайте!
Не успел он произнести это, как Шураня-маленький в мокром одеяле оказался на его руках.
Нюра в два прыжка, чуть коснувшись ладонью перил, одолела лестницу, влетела в отдел кадров, как, случается, вскакивает задыхающийся пассажир на заднюю площадку последнего вагона поезда, который набирает скорость.
— Я… У-уф! Каменщики нужны?..
Тот же старик писал что-то.
— Подождите, — буркнул он.