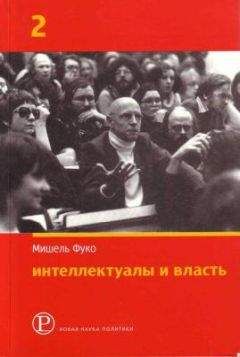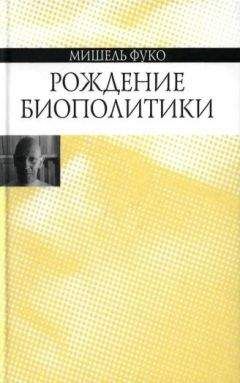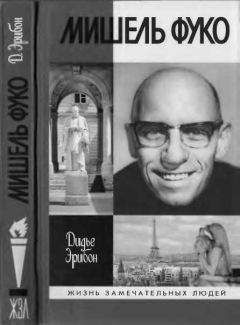Р. Мурару: Раз уж археология не подчиняется никакому методу, можем ли рассматривать ее как деятельность, принадлежащую к искусству?
М. Фуко: Действительно, то, что я пытаюсь делать, все меньше вдохновляется идеей создания сколько-нибудь наукообразной дисциплины. То, что я стремлюсь сделать, не связано с искусством, но представляет собой скорее род деятельности. Род деятельности, но не дисциплину. Деятельности, по существу, историко-политической. Не думаю, что история может быть полезной для политики и поставлять ей модели и примеры. Я не стремлюсь понять, допустим, в какой степени ситуация в Европе в начале XIX в. похожа на положение в остальном мире в конце XX в. Подобная система аналогий не кажется мне плодотворной. С другой стороны, мне кажется, что история может быть полезной для политической деятельности и что последняя, в свою очередь, способна служить истории, поскольку задача историка или, вернее, археолога состоит в выявлении оснований и преемственности в поведении, в психологической обусловленности, в условиях существования, во властных отношениях и т. д. Тех основ, что были заложены в определенный момент, которые заместили другие основы, а в настоящее время оказались глубоко запрятанными под иными образованиями, либо сокрытыми только потому, что они уже во многом стали частью нашего тела, нашего существования. Таким образом, мне кажется очевидным, что всё это имеет историческое происхождение. В этом смысле археологический анализ будет иметь, во-первых, функцию обнаружения неясных, внедренных в наше тело преемственностей. Отправляясь от изучения процесса их образования, мы будем иметь возможность, во-вторых, констатировать, насколько они были пригодны в прошлом и в настоящий момент; наблюдать, как они действуют внутри реальной экономии условий нашего существования. В-третьих, исторический анализ позволяет также научиться определять, с какой системой власти связаны данные основания, данные преемственности и, следовательно, с какой стороны к ним можно подступиться. Допустим, если мы сейчас желаем бороться с любыми проявлениями стандартизации в области психиатрии, мне кажется интересным понять, как в начале XIX в. установилось психиатрическое знание, возник институт психиатрии, увидеть, как она оказалась вовлеченной в экономические отношения или, по крайней мере, в отношения полезности. По моему мнению, археология заключается в следующем: в историко-политическом исследовании, основанном не на отношениях подобия между прошлым и настоящим, но скорее на отношениях преемственности и на возможности реального определения тактических целей стратегии борьбы именно с этой точки зрения. (Личность выступающего не установлена): Делёз говорил, что вы были поэтом. Но ведь вы только что сказали, что вы — не поэт, что археология — это не искусство, не теория, не стихи; что это практика. Может быть, археология — чудесная машина?
М. Фуко: Археология — без сомнения, машина, однако отчего же чудесная? Машина критики, машина, ставящая под вопрос определенные отношения власти, машина, которая имеет или, по крайней мере, должна иметь освободительную функцию. В той мере, в какой нам удается приписать поэзии освободительную функцию, я сказал бы, не то что археология — поэзия, но я хотел бы, чтобы она была поэзией. Я не припоминаю, где Делёз говорит, что я поэт, однако если бы я хотел бы наделить это утверждение смыслом, то он бы заключался в том, что Делёз имел в виду, что мои рассуждения не стремятся подчиняться тем же законам верификации, какие управляют «историей» в собственном смысле этого слова; взять хотя бы то, что единственная цель подобной истории — говорить правду, говорить о том, что произошло на уровне отдельных фактов, процессов и структуры преобразований. Я выразился бы гораздо более прагматически: в основе своей, моя машина пригодна; не потому, что ей удается подвести прошлое под некоторую модель, но в том, что она позволяет нам освободиться от прошлого.
А. Р. де Сант'Анна: Ранее вы сказали, что герметизм является формой контроля со стороны власти и в этом также есть отсылка к темноте лакановской мысли. С другой стороны, я вижу у вас желание написать настолько ясную книгу, что я назвал бы маллармеанским проектом антималлармеанской книги. Тогда, если рассматривать неясность литературного дискурса, противополагая ее прозрачному дискурсу, не будем ли мы заодно с Малларме (le retour du langage)24 и с Борхесом (l'hétérotopie)25 наделять преимуществом все тот же непрозрачный дискурс, в особенности если мы примем во внимание, что «Ницше и Малларме решительно подвели мысль к самому языку, к его единственному в своем роде и сложному бытию»26?
М. Фуко: Необходимо подчеркнуть, что я не подписываюсь подо всем без ограничения, что я писал в своих книгах… На самом деле я пишу из удовольствия от письма. По поводу Малларме и Ницше я имел в виду, что во второй половине XIX в. имел место процесс, отголоски которого мы находим в таких дисциплинах, как лингвистика, и в поэтических экспериментах вроде экспериментов Малларме; существовал целый ряд течений, имевших склонность задаваться таким, grosso modo, вопросом: что такое язык? Если предшествующие исследования были, главным образом, нацелены на понимание того, как мы используем язык для передачи идей, представления мыслей, связи значений, то сейчас, наоборот, проблема стоит в исследовании возможностей языка, его материальности. Мне кажется, поскольку мы затрагиваем проблему материальности языка, мы некоторым образом возвращаемся к проблематике софистики. Я не думаю, что возвращение к языку, погруженность в бытие языка можно отождествить с эзотеризмом. Малларме — автор не совсем ясный, он и не стремился быть ясным, однако мне не кажется, что подобный эзотеризм обязательно следует из обращения внимания на вопросы бытия языка. Если мы рассматриваем язык как ряд фактов, обладающих материальным статусом, то такой язык представляется злоупотреблением властью, поскольку его можно использовать определенным образом, настолько неясным, что он будет навязан извне тому, кому он адресован, создавая неразрешимые проблемы понимания либо проблемы повторного использования, использования аргументов против него самого, реагирования, критики и т. д. Поворот к бытию языка, таким образом, не связан с эзотерической практикой.
Я хотел бы добавить, что археология, как определенный вид историко-политической деятельности, не обязательно транслируется в книгах, в речах, в статьях. В итоге на самом деле меня смущает именно необходимость записывать всё и помещать в книгу. Мне кажется, что речь идет о практической и в то же время теоретической деятельности, которая должна осуществляться посредством книг, рассуждений и дискуссий, подобных сегодняшней, посредством политических действий, живописи, музыки…
Тегеран. Короли прошедшего века были, в целом, довольно покладистыми. Их видели отъезжающими ранним утром, покидающими дворец в тяжелых черных каретах, оставляющими власть нетерпеливому и учтивому министру. Были ли должностные лица более боязливыми, нежели сейчас, менее привязанными к власти, более чувствительными к ненависти или, может быть, попросту хуже вооруженными? Правительства всегда с легкостью рушились, когда народ выходил на улицу.
В XX в. для свержения режима нужно нечто большее, нежели «волнения». Необходимы оружие, штаб, организация, подготовка… Происходящее в Иране вполне способно взбудоражить сегодняшних наблюдателей. Они не находят в этих событиях ни китайской, ни кубинской, ни вьетнамской моделей, но только штормовую волну, лишенную военного аппарата, авангарда, партии. То, что происходит, также невозможно сравнить с движениями 1968 г., поскольку демонстранты с плакатами и цветами выдвигают конкретную политическую цель; они атакуют шаха и его режим; как раз в эти дни происходит его ниспровержение.
Когда месяц назад я покидал Тегеран, все очень сомневались в необратимости этого процесса. Ведь можно было считать, что все происходит слишком медленно. Движение вполне могло быть резко остановлено: реками крови, по мере того как оно становилось более интенсивным; раздробленностью, по мере того как оно расширялось; оцепенением, если бы оно оказалось неспособным определить свою программу. Ничего из этого не произошло и отныне всё развивалось очень быстро.
Первый парадокс и основная причина ускорения: на протяжении десяти месяцев население боролось с режимом, считающимся одним из наиболее хорошо вооруженных, и с одной из самых грозных полицейских систем. И только невооруженные люди, не имеющие доступа к оружию, их упорство и смелость сдерживают армию: мало-помалу она останавливается и не решается стрелять. Два месяца назад она оставила от трех до четырех тысяч человек убитыми возле площади Джале; вчера перед неподвижными солдатами прошли двести тысяч. Правительство было вынуждено пустить в действие команды провокаторов: они не дали никакого результата. Чем ближе подходил решающий момент, тем менее вероятным представлялось применение оружия. Подъем всего населения погасил гражданскую войну. Второй парадокс: восстание было лишено раздробленности и конфликтов. Возобновление работы университетов могло вывести на передний план студентов, настроенных, в отличие от сельских мулл, прозападно и промарксистски. Освобождение более тысячи политических заключенных могло привести к конфликту между старыми и новыми оппозиционерами. И наконец, главным образом, забастовка рабочих-нефтяников могла, с одной стороны, встревожить буржуазию базара, а с другой — раздробить круг чисто профессиональных требований: современный индустриальный сектор мог отделиться от сектора «традиционного» (и прекратить сопротивление сразу после повышения зарплаты, на что и рассчитывало правительство). Однако ничего подобного не произошло. Более того: бастующие рабочие предоставили движению грозное экономическое оружие. Остановка заводов по перегонке нефти истощила ресурсы правительства и придала иранскому кризису международное измерение. Для клиентов Ирана шах стал преградой для получения снабжения. Забавный ответ тем, кто когда-то скинул Моссадыка2 и восстановил монархию, для того чтобы иметь возможность лучше контролировать нефть. Третий парадокс: отсутствие долгосрочных целей не является фактором слабости. Напротив. Именно то, что у движения нет программы, именно то, что отдается мало приказов, свидетельствует о том, что они выражают ясную, упорную, практически единодушную волю.