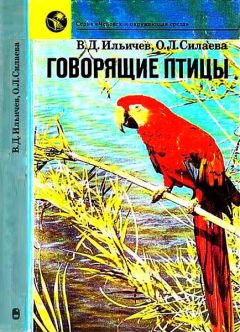Помимо колен наших болотных птиц, варакушки передают и голоса заморские — зимует птичка в Африке. У меня бывали варакушки, издающие тихое треньканье, как на средних гитарных струнах, а одна кричала низким голосом какой-то ночной птицы — возможно, цапли.
За необычайную красоту оперения — голубой нагрудник с красной звездочкой посередине и буроватой каемкой — варакушки ценятся охотниками высокого класса[6]. Да и поет она в клетке много. В треть голоса начинает уже с октября и так пропевает изредка. С января начнет прибавлять все громче и чище. В полный голос войдет в феврале и поет громко до июля. Конечно, главное условие долгой и громкой песни — правильное содержание. Содержать варакушку надо в соловьиной клетке с мягким верхом обязательно, иначе птичка собьет в кровь надклювье. В клетке нужны две жердочки и посредине сухая веточка-рогулька, тут варакушка будет петь. Хорошо и кочку ей поставить в уголке. К корму голубогрудка более строга, чем соловей, всякие суррогаты осваивает медленно, однако, когда привыкнет, ест с охотой, лишь бы корм был свежий. Смесь для варакушки обычно соловьиная: 1/3 моркови, 1/3 муравьиного яйца и 1/3 мяса вареного и крутого яйца, 3–5 мучных червей обязательно. В летнее время мешают до половины свежего муравьиного яйца. Число мучных червей со времени громкого пения увеличивают до 10–15 в две порции. Хорошо ест мотыль (малинку), но давать его следует понемногу.
Ловят варакушек в начале мая, с прилета. Уже в середине месяца ловля должна быть закончена, так как к этому времени птички разбиваются на пары. Ловить их для опытного охотника совсем не трудно. Прежде всего надо «выслушать» птичек. Для этого стоит утро-другое побродить по сырому мелколесью, купам луговых кустов, возле овражков и обросших ракитником канав. В глухом, закрытом лесу варакушки никогда не встретятся. Выслушав хорошего певца и усмотрев, где он чаще держится, делают на земле обильную прикормку из мучных червей и муравьиных яиц. Варакушки находят корм скоро, и тут можно не торопиться с установкой лучка — птичка будет прилетать или прибегать до тех пор, пока не соберет все или не будет поймана. Шалаш и укрытие для ловли не обязательны. Однажды я поймал самца варакушки, стоя в трех шагах от лучка, весь на виду. Иногда эти птички ловятся при охоте на соловьев, дубровников, ремезов, прикармливаясь раньше всех. Если варакушка поймана до 15 мая, ее можно оставить. Пойманных по случаю позднее надо немедленно отпустить. Они уже загнездились, и никакой песни охотник не дождется. Довольно пугливая, нервная в клетке, свежепойманная варакушка может даже погибнуть от шока. Все это должен знать каждый настоящий любитель и не надеяться на «авось выживет». Надо помнить, что самец и самка варакушки насиживают яйца оба, сменяя друг друга. Поэтому поздняя ловля — потеря гнезда.
Осенний лов варакушек может быть обилен по сырым и заглохшим углам, например, по берегам торфяных канав, но осенью ловить приходится без песни, наудачу, и попадаются тут варакушки молодые, с бедной хриплой песней.
Отлетают варакушки постепенно. Ни стай, ни сколько-нибудь значительных компаний они не образуют, появляясь в отлетное время повсюду в огородах и садах. Отлет приходится на конец сентября. Самая поздняя дата, когда я видел варакушку, — 12 октября 1965 года. Она держалась в кустах вишенника и выбегала кормиться на только что вскопанную гряду. День был теплый не по-октябрьски, стоял в тишине и безветрии.
Варакушки очень привязчивы к месту и никогда не уходят от гнездовья далее 10–15 метров. Однажды я купил у старого, но мало смыслящего в содержании птиц охотника больную нахохленную варакушку. Этот охотник каждую весну ловил и соловьев, и других птиц, был очень кичлив, самоуверен, но, как правило, насекомоядные у него гибли к зиме, посаженные на гнилой суррогатный корм и в темные клетки. Варакушка была в линьке и тоже погибла бы. Два дня я откармливал ее мучными червями, а потом выпустил в кусты смородины, надев на ножку медное проволочное колечко. Мельком видел я варакушку и в августе, и в сентябре, а в первых числах октября поймал снова лучком в снежный и ветреный день. Птичка вылиняла на славу, вид имела здоровый и веселый.
Эта варакушка оказалась средних достоинств. Громко запела в декабре и пела до июня. Она отлично передавала голоса уток, свист чирков, крик перепела и бекаса.
Несмотря на то, что варакушки долго не привыкают, их можно рекомендовать опытным любителям как прекрасную клеточную птицу.
Синяя свежая ночь. Черемуховые кусты у воды. Ни шороха, ни звука. И вдруг удивительно: будто стонет черная желна, угукает филин, вопит неведомая лесная нечисть и тут русалочьим смехом, дивным свистом перемежит, раскатится, разнесется и замрет.
— Иди… иди… иди… — зовет кто-то.
— Чо-чо-чо-чо-чо, — заговаривают темень, кусты.
— Угу-гу-гу-гу… угу…
— Чо-чо-чо-чо-чо, — отзывается темный берег.
Соловьиные места. На Урале они располагаются по ручьям и сырым займищам с высокой, еще не подкошенной в июне травой, по мелким речонкам с насквозь видным галечным и песчаным дном, плутающим в распаханных полях, меж ложков и оврагов.
На черноземных берегах речек растет урема — тихие кусты ракитника, кое-где размеженные березкой или осиной. Но главным образом берега речонок застилает черемушник. Черемуха, черная и гибкая, весной немилосердно обламываемая любителями ее горько пахучих цветов, забелевших в майском пасмурном холоде, а летом сплошь осыпанная глянцем вяжущих ягод, дает такую буйную корневую поросль, через которую ни пройти, ни проехать, разве как-нибудь проломиться к воде. Часто по ее прямостойным побегам ползет и вьется северный хмель, вьюнки висят лешачьими бородами. Зубчатолистая жальница-крапива стережет и пугает всякого.
Листья, вьюнки, крапива и хмель… Тут полным-полно насекомых. В зеленом сумраке порхают красные стрекозки, голубянки роятся и вьются над солнечным пятном.
Глубь уремы полна темнотой, и не скоро заметишь там соловья, словно бы самую душу зеленых дебрей, их голос и сказку.
СоловейСоловьи прилетают не так уж поздно в сравнении со всякой южной птицей. Еще до распускания первых листьев являются они в любимые места, но в холодную погоду совсем не показывают себя. Не поют. Самых ранних соловьев видал я восьмого мая. Тихонько перебегали они в голом черемушнике, быстро скрываясь из глаз.
Числу к 11, 15-му соловьи начинают петь, сперва робко и немного, на первой заре, а чем теплее становится, тем дольше. Идешь соловьиной речонкой, полями, и вдруг он защелкает в береговых кустах.
Екнет сердце охотника. Прилетел… И слушаешь, слушаешь его. Знали бы вы, как хорошо услыхать первого соловья. Сколько морозных дней прошло, сколько снегов, сколько зимней тоски…
Весна гуляет по земле. Жаворонки поют, поют над полями. Еще рано. Нет солнышка. А уж светло, свежо на востоке. Редкий туман жмется в низинки. И пахнет холодом, и проснувшейся землей, и сырой, обомлевшей за ночь травкой, и светлыми черемуховыми почками.
Самого соловья не увидишь. Он сливается в кустах с ржавым тоном жухлой листвы и коричневой корой веток. Разве что перелетит, тогда скорей обозначит себя. И странно: сперва заметишь дрогнувшую ветку, а потом уже неясную тень птицы.
Он не боязлив. Иные соловьи, из молодых, конечно, подпускают шага на три. Проберешься в чащу, тихо сидишь в уреме, следя за соловьем.
Птичка крупноватая, но поменьше певчего дрозда, лупоглазо-удивленная и очень изящная, как-то благородно точеная, перебегает по земле, быстро ворошит клювом листья. Иногда она стремительно схватывает что-то. Останавливается, насторожив голову, красиво поворачивая хвост вверх, вбок и вниз.
Она поглядывает на меня, точно прикидывает: опасно? Нет?
Видимо, решив, что большой беды не случится, соловей принимается за прерванные занятия.
Я проверял не раз, что ищут соловьи под опавшим листом. Разгребал его осторожно и всегда находил желтые твердые личинки жуков-щелкунов, тех самых, что удивляли нас в детстве умением прижимать усы, прогибаться и подскакивать с легким щелчком, едва перевернешь их на спину. Всякому, кто копал полевую картошку, знакомы эти личинки-проволочники, насквозь буравящие гниловатые клубни.
Время от времени соловей издает негромкое «фи… фи… фи…», а когда настораживается, слышен глухой и приятный храп: «кррр… каррр…»
Но вот птичка «насбиралась», легко порхнула на удобный сучок. С минуту соловей сидит в задумчивости, взъерошив перо, точно великий маэстро, которому давно нет дела до слушателей, и он, не стесняясь их, задумался попросту: что бы исполнить сейчас?
И вот такое ясное звучно-глубокое «фьи-у-вить…». Соловей запел. Всегда смешны, хоть небезосновательны, попытки звуками нашей речи передать соловьиную песню. Она так своеобразна, так странно сладка, дика, нежна, так необычайны издаваемые птицей высвисты и крики, что трогают до озноба. Особенно, если слушать соловья до утренней зари, когда кругом тьма и тишина, а поле, и звезды, и черные кусты тоже слушают, слушают. Слушают и молчат… Только так, узнав соловьев, понял я, как откровение, стихи Толстого, например его «Родину». Помните: