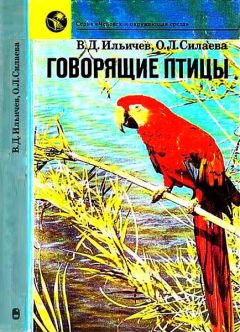И вот такое ясное звучно-глубокое «фьи-у-вить…». Соловей запел. Всегда смешны, хоть небезосновательны, попытки звуками нашей речи передать соловьиную песню. Она так своеобразна, так странно сладка, дика, нежна, так необычайны издаваемые птицей высвисты и крики, что трогают до озноба. Особенно, если слушать соловья до утренней зари, когда кругом тьма и тишина, а поле, и звезды, и черные кусты тоже слушают, слушают. Слушают и молчат… Только так, узнав соловьев, понял я, как откровение, стихи Толстого, например его «Родину». Помните:
Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле.
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле.
Гой ты, Родина моя,
Гой ты, бор дремучий,
Свист полночный соловья,
Ветер, снег да тучи.
Песни соловьев в полную силу начинаются с двадцатых чисел мая. К этому времени на занятые самцами участки прилетают соловьихи. Они появляются примерно через неделю, много через две после прилета самцов и так же внезапно, ибо летят ночью. С первого дня прилета соловей гоняется за своей рыжей, точь-в-точь похожей на него, соловьихой, ухаживает за ней. Их постоянно можно видеть вместе. И стоит ей куда-нибудь отлететь, как самец беспокойно кричит и кидается на поиски.
А уже через неделю в самом захламленном, заросшем травой и молодыми побегами месте соловьи строят гнездо. Я не раз находил эти рыхлые, словно наспех свитые из сухих травинок гнезда с розовато-коричневыми яичками. Они помещались то меж корнями черемухи, то под свесом приросших к земле ветвей, даже под кучами сухих, нарубленных с осени веток.
Там же встречал я позднее темноватых и крапчатых снизу (признак родства с дроздами) шустрых соловьят. Уже на девятый-десятый день они убегают из гнезда и шмыгают по уреме, как мыши, помаленьку привыкая к самостоятельности.
Они ловят и стерегут всякую живность, бегающую по теплой листовой подстилке уремы. Они подкарауливают жучков, склевывают пауков, гоняются за мошкарой и пяденицами и сами часто становятся добычей горностаев, ласок и хорьков, всегда живущих в таких дебрях. Очень помогает соловьям бесподобное умение прятаться, затаиваться, замирая на минуту и более. Птички делают это часто. Как же трудно различить такого окаменевшего вдруг соловья среди листьев, травы и веток!
Вывелись птенцы. Пение соловьев стихает. Да и одних ли соловьев? Откуковала горюнья-кукушка. Не слышно печальных строф дубровника. Молчит варакушка. Утихли 90 жаворонки в полях. К августу птицы становятся незаметны. Идет линька — трудное время. Всякая птица норовит укрыться подальше от врагов, а соловья и подавно не увидишь. Только по редкому призывному фиканью узнаешь, что он еще тут. А в первые числа сентября ударят холодные утренники, и пойдет соловьиный ночной отлет — не известный никому.
В отлетные солнечные дни вспугивал я иногда соловьев прямо дома, в огороде, в малиннике. Они держались всегда поодиночке. Никогда — ни весной, ни осенью — не замечал я соловьиных стай. Выпорхнет рыжая тихая птица, канет в широкий куст. И жаль станет. Теперь уж до новой весны не услышишь ее ключевый голос.
Отличное пение соловьев, однако, не причина для их массовой ловли. Вы никогда не увидите соловья на птичьем рынке рядом с обычными чижами и снегирями. На весь наш миллионный Свердловск не наберется и трех охотников, у кого бы жили, а главное, пели соловьи. Слишком трудно содержание нежных птиц для неопытного любителя. Ведь соловей не какой-нибудь зерноядный щегол — коноплю и семечки не ест. Подавай ему муравьиные яйца, мучных хрущей, живых тараканов, и тертую морковь, и вареную телятину, и рубленое яичко вкрутую. Иначе капризная птица петь не станет, а поет соловей немного — месяца два-три в году. Остальное время он молчит, как немой, быстро разочаровывая нетерпеливых любителей.
И все-таки я очень любил соловьиную охоту. К тому же, тогда я работал в школе, и как было не показать ребятам звонкоголосую русскую красу? Иные ведь про соловьев на Урале слыхом не слышали.
Еще не капало с крыш и снегом мело в окна, а я уже начинал обдумывать, где буду искать дорогую птицу.
Переберешь в уме все знакомые речки, торфяники, болотца и мочажины. Везде будут соловьи, да ведь поймать-то надо лучшего из лучших. По песне они очень различны. Молоденькие соловьи-первогодки и поют все равно как молодые петушки — хрипло и бедно. Два-три колена — и все тут. Зато меж старых птиц попадаются — до двадцати колен дают самых невероятных. Мне же надо было соловья не простого, а с лешевой дудкой — есть такое у них дикое и прекрасное басовое колено, будто бы сам леший кричит: «ого-го-го-го, у-гу-гу-гу-гу». Такое под силу редкому соловью — на сотню одного не разыщешь. И ловить соловья надо как можно раньше, с прилета, пока он не загнездился. Соловьев от пары только подлец и браконьер ловит. И все равно птица у него не запоет, погибнет скорее всего.
С первых чисел мая начинаешь готовиться. Пересмотришь, перечинишь сеть-лучок. Сто раз попробуешь, как он кроет. Даже ночами не спится. А весна, как назло, едва бредет и то дождичек, то снег подсыпает. После первого мая часты такие озимки. Глянешь поутру — белым-бело, а на черемухе, на тополях почки вот-вот лопнут, и горихвостка на заборе сидит, дрожит хвостиком. Вечерами, а когда позволяет время, — и утром, уезжаешь слушать соловьев: не явились ли? Ходишь, ходишь по речкам… Нет. Уже и варакушки поют в уреме, пеночки рассыпают переливчатый голосок. Нет соловьев. Холодно… Наконец потеплеет словно. Пасмурный такой, темный вечер. Заря уж едва тлеет. И вот он начал!
Дня три бегаешь, не щадя ног, пока выберешь по песне. Редка лешева дудка. Зато услышишь — с места не сойдешь.
Иду я однажды по речке Шиловке и слышу: гремит соловей. Дудку дает неслыханную. Следуют и другие колена чередом: гусачок, кукушкин перелет, иволга и дроздовый накрик, и все это соловьиной дробью с перещелком покрывается, да как чисто! Стал я его высматривать, подходить. Вижу: соловей крупный, статный, на высоких ножках — картинка. И не боязлив. Иные ведь пуганые соловьи на глаза не покажутся. А этот близко подпускает — то в черемушнике гремит, то на отдельную ольху невысоко взлетит. Заведет раскат, и слышу я, как у него что-то в горле чмокает, точно он воду холодную жадно пьет, не может напиться.
Теперь надо было мне найти то место, где он держится. У всякого соловья есть такой любимый куст, чаще всего сухой, погибший, в который не просунешься без риска выколоть глаза. Птичка в этом кусте сидит тихо, отдыхает, чистится, перышки оглаживает. Иногда и запоет вполголоса, будто портниха за работой.
Долго я лазал по уреме, собирал на одежду жадных весенних клещей. Их много бывает в мае в таком вот сыром мелколесье. Куст я нашел по кучкам беловатого соловьиного помета. Тоже ведь птичка-птичка, а не святым духом живет. Соловей бегал в кусте и тихонько, осторожно каркал, поводя хвостом.
Я разгреб под кустом сухие бурые листья и на влажный чернозем насыпал прикормку — горсть куколок рыжего лесного муравья и десяток мучных червей.
Прикорм на черной земле яснее видно. Птичка находит его скоро. Другой соловей через десять минут бежит к прикорму, машет своим вертячим хвостом. Поклюет — и ставь тогда лучок…
Жду я лешачью дудку, жду… Не торопится. Очень уж мудреный соловей оказался. Поет, бегает в кустах, а к прикормке не хочет подходить. Уж я его подгонял, уходил, снова возвращался — все бесполезно. В конце концов он дичиться стал. Хрустнет сучок — соловей лётом за речку. Улетит и поет там в черемуховой островине, попробуй его достань.
Так ни с чем я и ушел. На другое утро, до свету еще, иду пешком. Автобусов нет. Трамваи едва из парка выволакиваются. Километров пятнадцать надо идти. Прибыл я на место, уж солнышко в полдерева поднялось. Первым долгом — под куст. Съедена прикормка! «Уж теперь-то ты, друг, попадешь! Мой будешь!»
Наладил я лучок-самокрой, веревку протянул подальше в ивовые кусты. Сел там и жду. Не слышно что-то «мою» лешеву дудку. Поздновато уж. Солнышко вовсю пригревает. Шмели кругом жундят, виснут на желтых ивовых пуховках. Весь ивняк стоит в этой цыплячьей желтизне. И даже в лицо летит липкая нежная пыльца. А бабочки кругом — траурницы, крапивницы, желтушки! Черемухой сильно пахнет. Везде она распустилась. У самых моих ног в сырой тени доцветают высокие синие медуницы. Они уже выбросили шершавые ланцетные листья. И по ним, и под ними хлопотливо мечутся муравьи.
«Уж не они ли собрали прикормку?» — испугался я. Сколько раз так бывало. Насыплешь прикормку для птиц, а соберут мураши.
Вдруг бежит кто-то там по земле. Рыжее в кустах мелькает. Он! Вот вроде бы в точок забежал. Плохо мне видно. Однако надо крыть. Дернул я шнур.
Подбежал к сети. Что за наваждение?! Прыгает в лучке голубогрудый рыжехвостик — самец варакушки, такает с испугу. А неподалеку, гляжу, соловей сидит, поводит хвостом, и вид у него, как у мальчишки, проведавшего о ребячьей засаде.