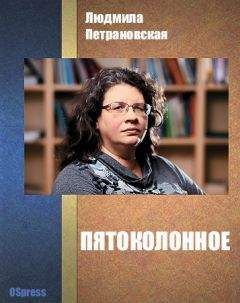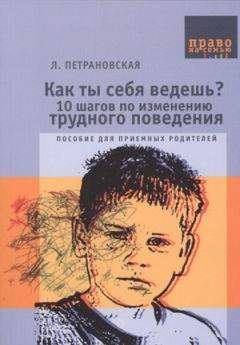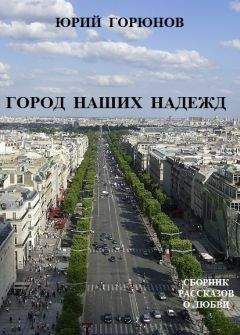Поэтому я не очень хочу участвовать в этом споре на какой-то стороне, напишу просто, почему для меня это событие оказалось важным.
Трансгенерационная передача травматического опыта
В свое время на меня огромное впечатление произвели книги «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели». Тема войны как травмы меня давно интересовала, а такого прямого доступа к опыту людей было немного. Понятно, что о таком не рассказывали ветераны школьникам, не показывали по телевизору и не писали в «правильной» литературе — там все больше про чувства, про любовь к Родине и долг, а про то, как обходились девчонки на фронте с месячными — нету. Хотя, если честно, на человека, на женщину, гораздо большее влияние оказывает не любовь к Родине, а вот этот опыт, когда она идет по жаре километр за километром, и по ногам течет, и все саднит, а мужчины отводят глаза. С этим опытом, с этим следом в душе она потом живет жизнь, рожает и растит дочерей и сыновей, и этот опыт отражается на том, как она их растит. И как они потом растят своих. Этот опыт переплавляется потом в самое разное, и, не зная о нем, невозможно понять очень многое в сегодняшних российских семьях и в отношениях между людьми, а это уже имеет прямое отношение к моей профессии.
Трансгенерационная передача травматического опыта и его последствий внутри семей — это очень для меня важная тема, я столько раз, начиная распутывать клубок с чего-то, казалось бы, вовсе далекого, натыкалась именно на это.
Начинаем разговор с молодой приемной мамой, которая жалуется на непонятную ей самой неприязнь к долгожданному малышу, такому вроде славному, нуждающемуся в ее любви. Она все для него делает, а сама не чувствует ничего, кроме тоски, долга, безнадежности и страха осуждения. И вот, не всегда, но довольно часто, перебрав все, лежащее ближе к поверхности: недостаточную подготовку к приему ребенка, сложности в отношениях с мужем, накопившуюся усталость, детские обиды, и выяснив, что все это может и есть, но «не то», не вызывает узнавания и эмоционального отклика, мы утыкаемся в всплывающее «вдруг» воспоминание о семейной истории, когда-то слышанной в детстве. Про бабушку этой сегодняшней мамы, младшую из нескольких детей, оставшуюся без матери вскоре после рождения. Отец женился почти сразу на молодой девушке, чтобы за детьми было кому смотреть. А тут начался голод. Большой голод. Отец умер, кто-то из детей тоже, кого-то из старших успели приткнуть учиться в ФЗУ, а младшую мачеха каким-то образом вывезла в город и там оставила но вокзале — в три года. Потом детдом, где ее через десять лет нашел кто-то из выживших старших. Историю в семье рассказывали с осуждением — «своего бы не оставила». А когда мы вспоминаем эту историю сейчас и думаем, каково было этой самой мачехе, у сегодняшней благополучной молодой женщины слезы потоком — и она узнает все свои чувства: тоску, обреченность, долг спасти чужого ребенка, и никакой любви и радости материнства, а вслед — только осуждение. Неосознанный, непринятый, похороненный в семейной памяти на долгие годы опыт всплывает в ответ на некое сходство ситуации — приемный младенец на руках — и подчиняет себе сегодняшние чувства. Не зная этого исторического контекста, не понимая, через что пришлось пройти целым поколениям, с российскими семьями работать невозможно, это мое глубокое профессиональное убеждение.
Это очень мало кому по силам
Вторая причина тоже связана с профессией, я хорошо представляю себе, каково это — пропускать через себя подобный материал. Слушать, принимать, выдерживать, когда не знаешь, что тяжелее слышать — судорожные рыдания или спокойный отстраненный голос. Я очень хорошо знаю, чего это стоит, поскольку приходится иногда слушать рассказы бывших воспитанников детских домов или их приемных родителей — там та же степень инфернальности, что в рассказах о войне, та же тотальная незащищенность маленького человека в жерновах. Никакие деньги, никакая известность, никакие премии и гранты — ничто не стоит того, чтобы, однажды побывав в этой преисподней, снова и снова туда добровольно спускаться, притом что тебе лично это не нужно и тебе ничего не грозит из этого. Но кто-то же должен.
Больше шансов спуститься туда и выйти обратно у человека с достаточным запасом внутреннего благополучия. Приходилось читать упреки, что Алексиевич не свой опыт осмысляет, а опыт других людей использует. Честно говоря, такой свой опыт осмыслить и описать — это очень мало кому по силам. Единицам. И обычно это очень незаурядные люди: Франкл, Шаламов. А как услышать голоса остальных? Тех, кто никогда бы не написал книгу? Кто их спросит, кто запишет? Алексиевич успела, и это очень ценно.
Мы не можем изменить историю и спасти этих людей от их травматического прошлого (ну, психолог здесь может несколько больше чем писатель, и все равно не то чтобы очень много). Но они имеют право быть хотя бы выслушаны. Хотя бы сохранить свои голоса, не кануть в Лету безмолвным расходным материалом истории.
При этом мне не все близко из того, что говорит Алексиевич в интервью, мне неприятны постоянные повторения про то, что здесь «никого не осталось», «нет свободных лиц» и так далее. Я не знаю, может, это обычное иммигрантское, когда есть какая-то потребность себе объяснить отъезд. Или работа с травмой все же сформировала «туннельное видение», я этот эффект хорошо знаю, когда смотришь вокруг и видишь сплошь несчастных сирот. Это не значит, что «никого не осталось», это значит, что лично мне пора в отпуск. Наверное, работа журналиста или писателя с таким материалом тоже требует поддержки в виде супервизии, как и работа психолога, чтобы разобраться с наведенными «полем» эмоциями и фантазиями. Но в любом случае эта работа вызывает у меня огромное уважение и сочувствие. Я чувствую как будто цеховую солидарность, хотя это и другая профессия.
Диссоциативное расщепление
Наша история очень и очень травматична, особенно история прошедшего века. Я думаю, мы все имеем дело с посттравматическим синдромом национального масштаба. Одна из его составляющих — диссоциативное расщепление. Это такая психологическая защита, избираемая психикой в непереносимых обстоятельствах — отщепить страдание, капсулировать его, чтобы не чувствовать душевной боли, оставаться функциональным и за счет этого выжить. Я уже как-то писала о том, как заметно диссоциативное расщепление в книгах, написанных прямо во время событий — таких, как «Радуга» Ванды Василевской, там о чудовищных событиях говорится так безэмоционально, в сдержанной описательной манере: вот труп сына лежит, вмерзший в сугроб, мать ходит проведывать, вот роженицу бьют сапогами, а новорожденного спускают в прорубь у нее на глазах, вот мальчика застрелили, мать его закапывает прямо в сенях. Эта же пугающая ровность слышна во многих записях Алексиевич: перечисление действий, событий, бытовые детали — как будто сквозь стекло, словно это не со мной.
Диссоциация сама по себе не есть плохо — это способ сохраниться, не сойти с ума, вполне функциональный механизм при условии, что он действует только на время. Когда нужно собраться, выжить, спастись, «дойти до своих». И там уже дать волю слезам, гневу, страху — всему, что было «отморожено», засунуто в капсулу. Но вот в чем проблема с проживанием травмы в нашей истории. Никаких «своих» не было. Ни по ту сторону фронта, ни по эту, и нигде вообще. Все эти героини Василевской после возвращения советской армии могли отправиться теперь уже в советские концлагеря. В глазах Родины они были преступниками, а не жертвами, раз не умерли в битве с врагом, раз посмели выжить на оккупированных территориях. А уж если бы они начали говорить и вспоминать… Никакого понимания, никакого сочувствия, никакого утешения, никакой помощи и защиты. Не смей говорить и помнить, заткнись и забудь.
Так диссоциация из временной защитной меры становится частью культурной нормы, частью национального характера. Это огромная и очень болезненная тема, заслуживающая отдельного разговора. Оно болит до сих пор, сказывается до сих пор, и не только ведь в той войне дело, много было всего еще и до, и после. Там такие объемы травматичного опыта, что заглянешь — и дна не видно. Но надо хотя бы пытаться. Застарелая диссоциация даже в масштабах психики одного человека может иметь довольно плохие последствия, что уж говорить, если она становится частью коллективного бессознательного.
Не мы одни через это проходили. Свидетельства жертв Холокоста стали собирать только в 70-х, до этого им тоже предписывалось молчать. Не под страхом тюрьмы, конечно, просто висело в воздухе. Но спохватились, записали, собрали, еще застали в живых. Канадские «сироты Дюплесси» получили возможность говорить тоже лишь через десятилетия. А сколько трагедий так и остались лишь скупыми строчками хроник, потому что голоса жертв и свидетелей не записал никто.