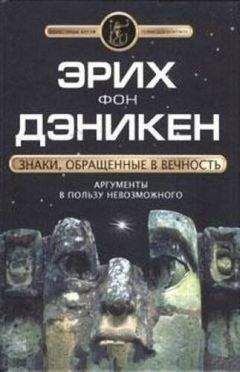деятельности – может практиковаться только врачами. Хотя бы уже потому, что логотерапевт как врач давал клятву Гиппократа, он должен заботиться о том, чтобы логотерапевтическая методика и техника были применимы для любого пациента, будь он верующий или неверующий, а также могла использоваться любым врачом, независимо от его личного мировоззрения. Другими словами, для логотерапии религия может быть только предметом, но не отправной точкой. Определив положение логотерапии внутри медицины, обратимся теперь к разграничению ее с теологией, которое, по нашему мнению, можно провести следующим образом.
Целью психотерапии является исцеление души, целью же религии – спасение души. Насколько различны эти две цели, можно судить, исходя из того, что священник при определенных обстоятельствах будет бороться за спасение душ своих прихожан, сознательно рискуя повергнуть их в еще большее эмоциональное напряжение, от которого ему не удастся их избавить. Изначально священник далек от всякого психогигиенического мотива – религия есть больше, чем просто средство избавить людей от психосоматических желудочных расстройств, как в шутку заметил один патер-иезуит из США. Но даже если в исходные намерения религии не входит забота о душевном выздоровлении или предупреждении болезней, она так или иначе по своим результатам – а не по намерениям – является психогигиенически и даже психотерапевтически действенной. Она обеспечивает такую беспримерную защищенность и укорененность, которую человек нигде больше не сможет найти, – защиту и укорененность в трансцендентном, в Абсолюте. Аналогичный непреднамеренный побочный эффект мы можем отметить и у психотерапии, когда в отдельных случаях пациент во время психотерапии неожиданно обнаруживает глубоко спрятанные источники изначальной, бессознательной, скрытой религиозности. Когда это происходит, это ни в коем случае не входит в декларируемые намерения врача. Так случается потому, что врач и его пациент встречаются на единой религиозной почве и возникает особого рода личностный союз, но тогда происходящее между ними уже не называется врачеванием.
Разумеется, это вовсе не означает, что цели психотерапии и религии находятся в одной плоскости. Скорее, душевное здоровье находится на другом уровне, нежели спасение души. Измерение, в которое проникает религиозный человек, также выше, объемнее, чем то измерение, в котором происходит психотерапия. Прорыв в высшее измерение, однако, происходит не через знание, а через веру.

Если попытаться определить отношение человеческого к божественному, сверхчеловеческому измерению, то напрашивается сравнение с золотым сечением: как известно, меньшая часть отрезка, разделенного в этой пропорции, относится к большей так же, как бóльшая к целому. Не похоже ли это на отношения животного к человеку и человека к Богу? Как известно, для животного существует лишь окружающая среда, в то время как у человека «есть мир» (Макс Шелер); однако человеческий мир относится к сверхмиру так же, как окружающая среда животного к человеческому миру. И это означает следующее: как животное в своей среде не в состоянии понять человека и его мир, так же человек не может заглянуть в сверхмир, понять Бога или постичь его мотивы.
Возьмем, например, обезьяну, которой делают болезненную инъекцию, чтобы получить сыворотку. Сможет ли обезьяна когда-нибудь понять, почему она должна страдать? Находясь в своей среде, она не в состоянии воспринять соображения, которым следует человек в этом эксперименте, так как человеческий мир, мир смысла, ей недоступен, она никогда не дотянется до него. Но не следует ли нам признать, что над самим человеческим миром, со своей стороны, находится недосягаемый для него мир, сверхсмысл которого только и может придать смысл страданию?
Психотерапия, таким образом, должна разворачиваться по эту сторону веры в откровение, ведь если человек вообще признает откровение как таковое, то решение о вере уже принято. Общаясь с неверующим, бесполезно указывать ему на откровение, ведь если бы откровение для него существовало, он был бы уже верующим.
Даже если религия и является для логотерапии, как уже было сказано, всего лишь предметом, она для нее очень важна по той простой причине, что логос в контексте логотерапии означает смысл. Действительно, человеческое бытие выходит за свои пределы, устремляясь к смыслу. И в этом плане бытие людей направлено не на удовольствие или власть и даже не на самореализацию, а скорее на реализацию смысла. В логотерапии мы говорим о «стремлении к смыслу».
Смысл – это наш оплот, не дающий нам отступить; мы должны допустить наличие последнего смысла потому, что за ним уже не предполагается вопросов. Ведь попытка ответить на вопрос о смысле существования уже предполагает существование смысла. Вера человека в смысл является, по Канту, трансцендентальной категорией. После Канта мы уже знаем, что бессмысленно спрашивать о таких категориях, как пространство и время, просто потому, что мы не можем о них думать и спрашивать, не предполагая уже их существования. Так и человеческое бытие всегда есть бытие к смыслу, даже если он нам не очень известен: в нас есть уже некое пред-знание смысла, и эта догадка о смысле лежит также в основе «воли к смыслу». Хочет он того или нет, признает он его или нет – человек верит в смысл, покуда он дышит. Даже самоубийца верит в смысл, если не в смысл дальнейшей жизни, то в смысл смерти. Если бы он не верил в него, он не смог бы и пальцем пошевелить, не говоря уже о самоубийстве.
Я видел убежденных атеистов, которые на протяжении всей своей жизни решительно отвергали веру в «высшее существо» или находящийся в высшем измерении смысл жизни, но в свой смертный час, на смертном одре, они признавали скрытое измерение смысла, которое не только противоречит их мировоззрению, но которое вообще нельзя интеллектуализировать и рационализировать. Что-то прорывается из глубины, побеждает в борьбе, и возникает безграничное доверие, которое оказывается неизвестно кому и неизвестно на что направлено, доверие вопреки познанию и неблагоприятным прогнозам. О том же пишет и Вальтер фон Байер: «Мы цепляемся за наблюдения и мысли, которые обречены. Если подумать объективно – нет уже никакой надежды. Больной, находящийся в здравом рассудке, должен и сам замечать, что он приговорен. Но он по-прежнему верит, верит до конца. Во что? Надежда этого больного на излечение в этом мире, на первый взгляд, в основе своей иллюзорна, и только в ее скрытых основах угадывается ее трансцендентное смысловое содержание. Надежда всегда коренится в человеческом измерении бытия, которое без нее не может существовать, она предопределяет будущую исполненность. Вера в нее естественна для человека помимо каких-либо догм» [33].
Если психотерапия воспринимает религиозность не как веру в Бога, а как всеобъемлющую веру в смысл, тогда вполне закономерно, что она интересуется и занимается феноменом веры. Ее принцип совпадает в этом