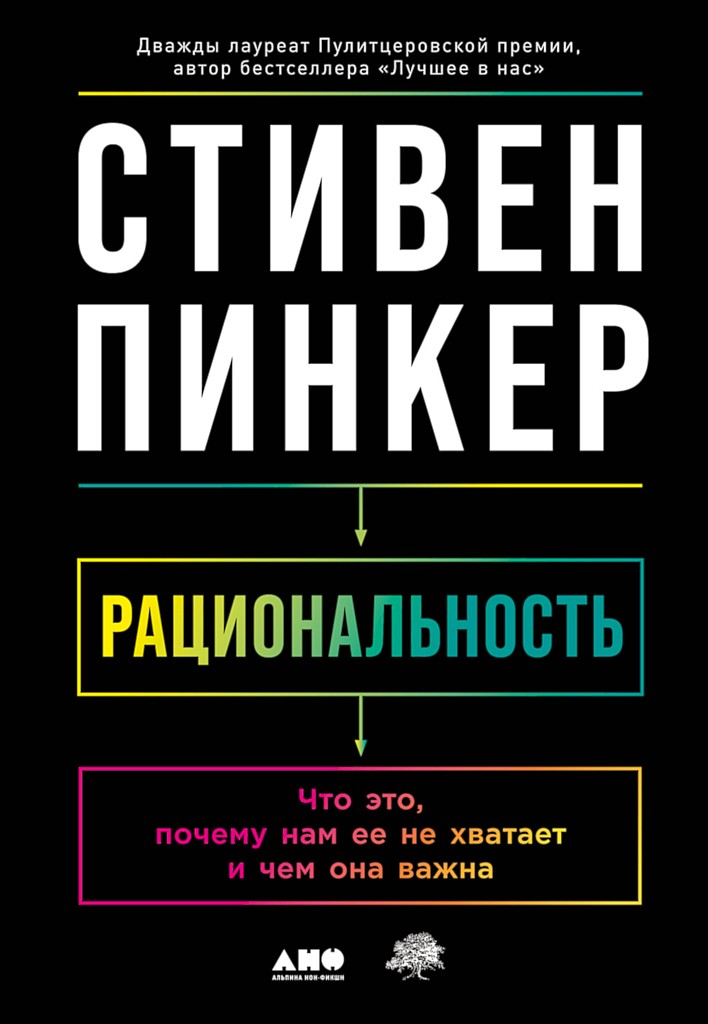давайте предположим, чисто гипотетически, что мы были бы способны на измену. С кем бы вы завели интрижку?» Или в такую: «Конечно, никто из нас даже чуточку не расист. Но если такое допустить — против какой группы вы были бы предубеждены сильнее всего?» (Мою родственницу однажды втянули в такую игру, после чего она бросила своего парня, назвавшего евреев.)
Разве можно считать рациональным отвращение к одной только мысли, которая сама по себе никому не повредит? Тетлок замечает, что мы судим людей не только по поступкам, но и по тому, кто они такие. Человек, способный обдумывать подобные предположения, даже если он пока ничего плохого не сделал, вполне может нанести вам удар в спину или продать вас, если вдруг возникнет такой соблазн. Представьте, что вас спрашивают: «За сколько ты продашь своего ребенка?» Или дружбу, или гражданство, или сексуальную услугу? Правильным ответом будет отказ отвечать, а еще лучше — обида на сам вопрос. Как и рациональная беспомощность в ситуациях торга, угроз и обещаний, ограничение свободы мысли тоже может быть преимуществом. Мы доверяем тем, кто по природе своей не способен предать нас и наши ценности, а не тем, кто сознательно решил пока что воздержаться от такого поступка.
Еще одна область, которую порой исключают из сферы рационального, — это мораль. Разве можем мы логически рассудить, что есть зло или добро? А подтвердить свои выводы экспериментальными данными? Непонятно, как это сделать. Многие убеждены, что «невозможно перейти от утверждения „так есть“ к утверждению „так должно быть“». Эту мысль иногда приписывают Юму — с посылкой, близкой к его рассуждению, будто разуму следует быть рабом аффектов. «Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом, — писал он в известном отрывке, — если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец» {12}, [101]. И не сказать, чтобы Юм был бездушным социопатом. Беспристрастно рассматривая вопрос с другой стороны, он продолжает: «Я не вступлю в противоречие с разумом и в том случае, если решусь безвозвратно погибнуть, чтобы предотвратить малейшую неприятность для какого-нибудь индийца или вообще совершенно незнакомого мне лица». Похоже, что нравственные убеждения, как и другие аффекты, зависят от нерациональных предпочтений. Это согласуется с наблюдением, что представления о моральном и аморальном изменяются от культуры к культуре: взять, к примеру, вегетарианство, богохульство, гомосексуальность, добрачный секс, физические наказания детей, разводы и полигамию. Более того, в нашей собственной культуре эти представления различались в разные периоды. В прежние времена мельком увидеть дамский чулок уже казалось чем-то шокирующим {13}.
Действительно, моральные суждения необходимо отличать от логических и эмпирических. Философы первой половины XX в. серьезно подошли к аргументу Юма и мучительно пытались понять, что же такое моральные суждения, если они не имеют отношения ни к логике, ни к наблюдаемым фактам. Некоторые из них заключили, что высказывание «Х — зло» значит не более чем «Х нарушает правила», или «Мне не нравится Х», или даже «Х — фу!» [102]. Стоппард от души позабавился с этой мыслью в пьесе «Прыгуны», где главный герой сообщает инспектору полиции, расследующему убийство, что, согласно взглядам его коллеги-философа, аморальные поступки «не греховны, а всего лишь антиобщественны». Ошарашенный инспектор интересуется: «Он действительно думает, что нет ничего плохого в том, чтобы убивать людей?» Джордж отвечает: «Ну, если так ставить вопрос, то конечно… Но с философской точки зрения, он и правда не считает, что это на самом деле, само по себе плохо по своей природе» [103].
Многие люди, подобно скептически настроенному инспектору, не готовы низводить мораль до общественной условности или личного вкуса. Когда мы говорим: «Холокост — это ужасно», разве наш здравый смысл не позволяет нам отличить это утверждение от высказывания «Мне не нравится холокост» или «Моя культура не одобряет холокост»? Как вы считаете, держать рабов — это не более и не менее рационально, чем носить тюрбан, или ермолку, или чадру? А если ребенок смертельно болен и нам известно о существовании лекарства, которое его спасет, неужели дать ему это лекарство не более рационально, чем отказать в нем?
Сталкиваясь с такими неприемлемыми выводами, некоторые надеются возвести мораль к решению высшей силы. Для того-то и нужна религия, говорят они, — и им даже вторят многие ученые, например Стивен Джей Гулд [104]. Но Платон расправился с этим аргументом еще 2400 лет тому назад, в диалоге «Евтифрон» [105]. Выбирает ли бог добро, потому что оно благое, или же добро — благое, потому что так решил бог? Если верно второе и бог, изъявляя свою волю, не руководствуется никакими разумными причинами, почему мы должны принимать всерьез его прихоти? Если он прикажет пытать и убить ребенка, будет ли это деяние праведным? «Он никогда такого не сделает!» — могли бы возразить вы. Но в этом случае мы вынуждены перейти к первому положению дилеммы. Если у божественной воли есть разумные обоснования, почему бы нам не обратиться к ним напрямую, избавившись от посредника? (Вообще говоря, Господь Ветхого завета довольно часто приказывал убивать детей.) [106]
В действительности поставить в основание морали здравый смысл не так-то сложно. Формально Юм был прав, когда писал, что не вступит в противоречие с разумом, если предпочтет глобальный геноцид царапине на своем мизинце. Но это очень, очень узкое утверждение. Как он сам замечает, он не вступит в противоречие с разумом и в том случае, если предпочтет, чтобы с ним случалось не хорошее, а плохое, скажем боль, болезнь, бедность и одиночество, а не счастье, здоровье, процветание и хорошая компания [107]. Ну… как скажешь, старина. Но давайте предположим — иррационально, своевольно, упрямо, беспричинно, — что для себя любимых мы предпочитаем хорошие вещи плохим. Давайте сделаем второе дикое и необоснованное предположение: мы не Робинзоны Крузо на необитаемом острове, мы — социальные существа, живущие в обществе других таких же. Наше благополучие зависит от того, что делают эти другие, например помогают, когда мы в этом нуждаемся, и не пакостят без причины.
Это меняет все. Как только мы говорим окружающим: «Вы не должны причинять мне зло, или морить голодом, или позволять моему ребенку утонуть у вас на глазах», мы уже не можем сказать: «Но вот я вправе причинять вам боль или морить голодом и не собираюсь спасать вашего тонущего ребенка» — и ожидать, что люди станут принимать нас всерьез. Очевидно, что, затеяв с вами рациональное обсуждение, я не